Перейти к:
Минерально-сырьевая база меди России: состояние, возможности развития
https://doi.org/10.17073/2500-0632-2024-05-248
Аннотация
Актуальность работы обусловлена необходимостью получения максимально полной картины состояния минерально-сырьевой базы меди по Российской Федерации. Цель: изучение состояния минерально-сырьевой базы меди России (балансовых запасов, прогнозных ресурсов), пространственного размещения месторождений меди по типам рудных формаций и в пределах рудных провинций, перспектив национального производства добычи меди. Методы: статистический, графический, логический. Результаты: Представлена сводная карта-схема России, включающая 25 меднорудных провинций и выборку из 150 наиболее значимых месторождений меди различных рудных формаций, перспективных объектов и площадей. Даны характеристики основных рудных формаций, месторождения меди которых имеются в России, а также меднорудных провинций и медных месторождений вне провинций. В России основная добыча сконцентрирована на сульфидных медно-никелевых и медно-колчеданных месторождениях, а также начата добыча на медно-порфировых и медно-скарновых месторождениях. В 2021 г. уровень добычи меди в Российской Федерации составил 1147 тыс. т. Реализация новых подготавливаемых проектов разработки медных месторождений может увеличить уровень годовой добычи России на 635–1053 тыс. т (на 55–91 % от уровня добычи 2021 г.). В России по состоянию на 01.01.2022 г. учтено 102,7 млн т балансовых запасов и прогнозных ресурсов в пересчете на условные запасы – 16,1 млн т. Наибольшие объемы запасов меди приходятся на медно-никелевую (34,4% от российских запасов), меднопорфировую (23,9 %) формации, формацию медистых песчаников (19,6 %) и медно-колчеданную формацию (14,5 %) и 7,6 % на все остальные рудные формации. По провинциям на Норильско-Хараелахскую приходится 30,9 % от российских запасов, на Кодаро-Удоканскую – 20,3 % на Уральскую – 18,9 %. Отмечается увеличение показателей долей запасов меди для новых провинций: Приморской – 8,29 %, Охотско-Чукотской – 6,23 % и Восточно-Тувинской – 3,7%. На остальные меднорудные провинции приходится 11,68 % российских запасов меди. В целом имеющихся запасов меди Российской Федерации хватит минимум на 47 лет оптимальной эксплуатации. Наиболее обеспечены запасами разрабатываемые месторождения медно-никелевой и медно-порфировой формаций, а также формации медистых песчаников. Для месторождений медно-колчеданной и медно-скарновой формаций имеет место срабатывание имеющихся запасов балансовых руд. По эксплуатационным регионам достаточная обеспеченность имеется лишь для Норильско-Хараелахской, Кольской и Рудно-Алтайской провинций. В старой горнопромышленной Уральской и новой Восточно-Забайкальской провинциях отмечается серьезное срабатывание запасов балансовых руд. В старой горнопромышленной Северо-Кавказской провинции имеет место высокий уровень обеспеченности, что является следствием малого уровня добычи и наличия невостребованных запасов резервных медных месторождений. Обеспеченность запасов прогнозными ресурсами медно-никелевой формации невысокое, но возможны открытия новых месторождений богатых сливных руд на глубине в пределах Хараелахского и Тангаралахского рудоносных интрузивов. Для медно-колчеданной формации прирост запасов возможен за счет оценки глубоких горизонтов и периферии известных месторождений Уральской провинции, а также поиска новых месторождений на территории Приполярного и Полярного Урала. Для медно-полиметаллической формации известно множество месторождений в старых горнопромысловых Рудно-Алтайской, Салаирской и Северо-Кавказской провинциях, а также при исследовании новых Восточно-Тувинской и Охотско-Чукотской провинций. Для медно-порфировой формации увеличились масштабы геологоразведочных работ в Восточно-Тувинской, Приморской и Охотско-Чукотской провинциях, где имеются все предпосылки к обнаружению новых, в том числе крупных медно-порфировых месторождений. Для формации медистых песчаников возможен прирост запасов в пределах Кодаро-Удоканской, Игарской, Билякчанско-Приколымской и Шорско-Хакасской провинциях. В условиях развития новых технологий подземного выщелачивания меди становятся привлекательными поиски, разведка и вовлечение в эксплуатацию небольших месторождениий медистых песчаников в Приуральской и Донецкой провинциях. В учтенных балансовых запасах меди России отсутствуют объекты месторождений формации самородной меди в базальтоидах, известные в пределах Шорско-Хакасской, Норильско-Хараелахской и Билякчанско-Приколымской провинций.
Ключевые слова
Для цитирования:
Боярко Г.Ю., Лаптева А.М., Болсуновская Л.М. Минерально-сырьевая база меди России: состояние, возможности развития. Горные науки и технологии. 2024;9(4):352-386. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2024-05-248
For citation:
Boyarko G.Yu., Lapteva A.M., Bolsunovskaya L.M. Mineral resource base of Russia’s copper: current state and development prospects. Mining Science and Technology (Russia). 2024;9(4):352-386. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2024-05-248
Минерально-сырьевая база меди России: состояние, возможности развития
Введение
Медь занимает третье место по объемам производства и потребления среди базовых промышленных металлов (после железа и алюминия) [1] и используется в многочисленных электротехнических приложениях как проводник электричества, в сплавах различного назначения (латунь, бронза, мельхиор и др.), в химических соединениях меди для производства антисептиков, микроудобрений, катализаторов окислительных процессов и других назначений [2]. Медь включена в национальный перечень основных видов стратегического минерального сырья (Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2022 № 2473-р), а в Стратегии развития минерально-сырьевой базы России она относится к первой группе полезных ископаемых, запасы которых при любых сценариях развития экономики удовлетворят необходимые национальные потребности до 2035 г. и в последующий период (Распоряжение Правительства РФ от 22 декабря 2018 г. № 2914-р) [3]. Аналогичный статус меди заявлен в США, Европейском Союзе, Канаде, Китае и Индии [4], но в некоторых странах (Японии, Южной Корее, Австралии) она включена в перечень критических (импортозависимых) товарных продуктов [5, 6].
Мировое потребление и соответственно предложение первичной меди увеличилось с 2000 г. к 2021 г. на 60 %, а мировые запасы в 2,6 раза. В первую очередь это результат бурного роста экономики Китая и формирования новой мировой политики «зеленой» экономики с расширением доли возобновляемой энергетики в мировом топливном балансе и решением задач по снижению выбросов углекислого газа при производственных процессах и жизнедеятельности населения [1, 2, 7]. Медь используется во всех основных технологиях низкоуглеродной энергетики (обмотки ветрогенераторов, двигатели электромобилей и др.). Даже спад мировой экономики и политическая неопределенность не сказываются на темпах роста потребления меди, причем имеется тенденция увеличения отставания его мирового предложения ввиду медленных темпов ввода в эксплуатацию новых крупных добывающих производств [8].
Россия располагает крупной сырьевой базой меди, занимая 2-е место в мире по запасам, 6-е место по товарному производству и 3–4-е место по объемам экспорта1. Если в 1990-е годы ввиду спада внутреннего потребления в условиях переходной экономики российская добыча меди упала с 800 тыс. т в 1991 г. до уровня 500–580 тыс. т/год в 1995–2012 гг., то на фоне роста мировых цен начиная с 2013 г. начался рост добычных работ вплоть до 1028 тыс. т в 2019 г.2 Рост добычи и производства рафинированной меди в этот период сопровождался увеличением доли экспорта от производства с 20–30 % в 2011–2013 гг. до 60–70 % в 2015–2020 гг. Минерально-сырьевая база меди и производственные мощности России закрывают все национальные потребности и имеют значительный экспортный потенциал. Учитывая мировые тенденции роста потребления меди в ближайшем будущем, весьма перспективно развивать ее национальную добычу с целью увеличения российской доли в мировой торговле медными товарными продуктами.
1 Государственные доклады о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2002-2021 гг. МПР РФ, 2022. 626 с. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/
2 Там же.
Методика исследований
С целью изучения российской минерально-сырьевой базы меди были собраны данные по российской добыче меди за период 2002–2021 гг., по запасам и прогнозным ресурсам месторождений меди по состоянию на 01.01.2021 г. Работа с источниками информации: Государственные доклады Министерства природных ресурсов и экологии России3, Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы регионов Российской Федерации4, Паспорта Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых РФ5 и публикации по ресурсам меди в открытой печати. Единицы измерения запасов и добычи меди – метрические тонны 100 % Cu. Объемы прогнозных ресурсов меди приводятся по категориям в заявленных абсолютных величинах, а при суммировании – в пересчете на условные запасы категории С2 с учетом поправочных коэффициентов для разных категорий. На общую схематическую карту России сведены наиболее значимые месторождения меди различных рудных формаций, перспективные объекты и площади для геологоразведочных работ на медь, ранее выделяемые рудные провинции меди и предлагаемые к выделению новые меднорудные провинции. Определены ограничения разработки новых месторождений меди по природоохранным требованиям. Рассмотрены возможности развития медно-добывающей отрасли с применением инновационных технологий добычи и переработки медных руд. Произведен анализ состояния балансовых запасов и прогнозных ресурсов по рудным формациям и меднорудным провинциям.
3 Государственные доклады о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2002-2021 гг. МПР РФ, 2022. 626 с. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/
4 Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы регионов Российской Федерации (по состоянию на 01.01.2022 г.). СПб.: ВСЕГЕИ, Государственное задание от 14.01.2022 №049-00018-22-01, 2022. URL: http://atlaspacket.vsegei.ru/?v=msb2021#91474d2e700eb6c90
5 Паспорта месторождений меди. Российский федеральный геологический фонд. Единый фонд геологической информации о недрах. Реестр первичной и интерпретируемой информации. 2023. URL: https://efgi.ru/
Состояние минерально-сырьевой базы меди России
Россия занимает 2-е место в мире по запасам после Чили, 6-е место по добыче из недр после Чили, Перу, Китая, Конго и США, 5-е место по производству рафинированной меди после Китая, Чили, Японии и ДР Конго, 3–4-е место по объемам экспорта (совместно с Японией) после Чили и ДР Конго6 [9]. Основу сырьевой базы меди России составляют объекты сульфидного медно-никелевого, медно-порфирового медно-колчеданного и стратиформного геолого-промышленных типов. Основная добыча сконцентрирована на сульфидных медно-никелевых и медно-колчеданных месторождениях, а также увеличиваются объемы добычи на медно-порфировых объектах7.
На основе собранных данных составлены:
- обзорная карта меднорудных провинций и основных месторождений меди России (рис. 1);
- диаграммы объемов и долей добычи меди за 2002–2021 гг. по типам рудных формаций (рис. 2) и меднорудным провинциям (рис. 7);
- диаграммы по долям объемов запасов и добычи меди (2021 г.) по типам рудных формаций (рис. 3) и меднорудных провинций (рис. 6);
- диаграмма по объемам балансовых запасов и прогнозных ресурсов по типам рудных формаций (рис. 4);
- диаграммы по объемам запасов и добычи меди по провинциям (рис. 6).
Ниже приводятся характеристики меднорудных формаций, известных на территории Российской Федерации, и месторождений меди в пределах и за пределами выделенных меднорудных провинций.
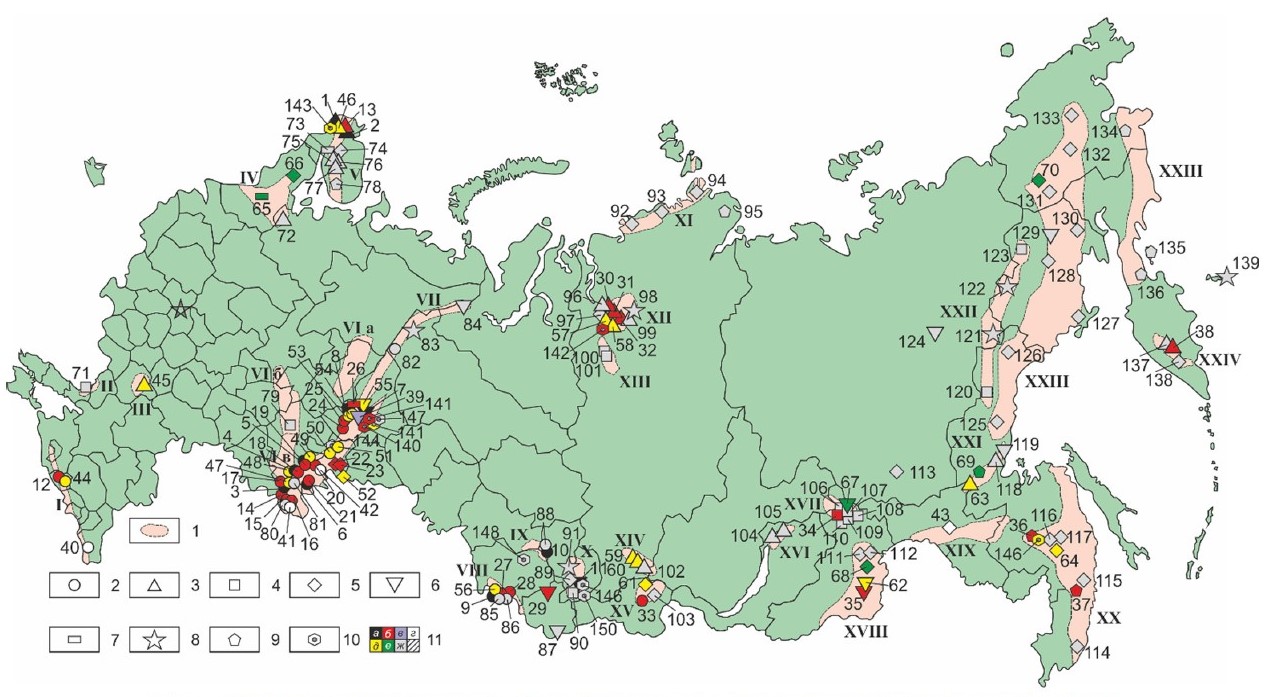
Рис. 1. Меднорудные провинции, месторождения меди по геолого-технологическим типам и состоянию их вовлеченности в производство: 1 – меднорудные провинции; 2–10 – геолого-технологические типы медных месторождений (2 – медно-колчеданные и колчеданно-полиметаллические, 3 – медно-никелевые, 4 – медистые песчаники, 5 – медно-порфировые, 6 – медно-скарновые, 7 – медно-железорудные магматические, 8 – самородной меди, 9 – с попутной медной минерализацией, 10 – техногенные); 11 – состояние вовлеченности медных месторождений в производство: а – отработанные и остановленные (законсервированные), б – разрабатываемые открытым и подземным способами, в – разработка геотехнологическим способом, г – находящиеся в нераспределенном резерве, д – подготавливаемые к освоению, е – на стадии геологоразведочных работ, ж – на стадии поисков и оценки участков и площадей. Меднорудные провинции: I – Северо-Кавказская, II – Донецкая, III – Воронежская, IV – Карельская, V – Кольская, VI – Приуральская (VIа – уфимский ярус, VIб – казанский ярус, VIв – татарский ярус), VII – Уральская, VIII – Рудно-Алтайская, IX – Салаирская, X – Шорско-Хакасская (Мрассу-Батеневская), XI – Центрально-Арктическая, XII – Норильско-Хараелахская, XIII – Игарская, XIV – Саянская, XV – Восточно-Тувинская, XVI – Северо-Байкальская, XVII – Кодаро-Удоканская, XVIII – Восточно-Забайкальская, XIX – Умлекано-Огоджинская, XX – Приморская, XXI – Джугджурская, XXII – Билякчанско-Приколымская; XXIII – Охотско-Чукотская, XIV – Корякская, XV – Камчатская. Медные месторождения: 1–11 – отработанные, остановленные: 1 – Котсельваара-Каммикиви, Семилетка, 2 – Тундровое, Заполярное, 3 – Дергамышское, 4 – Сибайское, 5 – Учалинское, 6 – Александринское, 7 – Меднорудянское, Турьинская группа, 8 – Тарньерское, 9 – Змеиногорское, 10 – Каменушинское, 11 – Кеялых-Узень, Глафиринское, Юлия; 12–38 – месторождения разрабатываемые: 12 – Урупское, 13 – Ждановское, 14 – Гайское, 15 – Осеннее, 16 – Весенне-Аралчинское, Джусинское, 17 – Юбилейное, 18 – Камаганское, 19 – Озерное, Западно-Озёрное, 20 – Талганское, Узельгинское, Молодежное, 21 – Чебачье, 22 – Томинское, 23 – Михеевское, 24 – Сафьяновское, 25 – Ново-Шемурское, 26 – Волковское, 27 – Карбалихинское, Зареченское, 28 – Степное, 29 – Синюхинское, 30 – Октябрьское, 31 – Талнахское, 32 – Норильск-I, 33 – Кызыл-Таштыгское, 34 – Удоканское, 35 – Быстринское, 36 – Правоурминское, Фестивальное, Соболиное, Перевальное, 37 – Восток-2, 38 – Шануч; 39 – разработка геотехнологическим способом (Гумешевское); 40–43 – месторождения в резерве, нераспределенные: 40 – Кизил-Дере, 41 – Комсомольское, 42 – Новое, Южное, 43 – Иканское; 44–64 – месторождения, подготавливаемые к освоению: 44 – Худесское, Скалистое, Первомайское, 45 – Еланское, Ёлкинское, 46 – Быстринское, Верхнее, Спутник, 47 – Подольское, Северо-Подольское, 48 – Вишневское, 49 – Ново-Учалинское, 50 – Султановское, 51 – Маукское, 52 – Тарутинское, 53 – Саумское, 54 – Северо-Калугинское, 55 – Северное-3, 56 – Таловское, 57 – Масловское, 58 – Черногорское, 59 – Кингашское, 60 – Верхнекингашское, 61 – Ак-Сугское, 62 – Култуминское, 63 – Кун-Манье, 64 – Малмыжское; 65–70 –месторождения на стадии геологоразведочных работ: 65 – Викша, 66 – Лобаш-1, 67 – Чинейское, участок Рудный, 68 – Лукагонское, 69 – Кондер, участок Аномальный, 70 – Песчанка; 71–136 – перспективные площади, участки поисков и оценки: 71 – Бахмутская, 72 – Волошовское, 73 – Колвицкое, 74 – Пеллапахк, 75 – Поаз, Нюд, 76 – Ниттис-Кумужья-Травяная, Сопча (рудный пласт 330), 77 – Арваренч, Морошковое озеро, 78 – Федорово-Панские тундры, 79 – Белебеевская (Карсакские рудники), 80 – Блявинская, 81 – Мембетовская-Карагайская, Новопетровская, 82 – Вольинская, Грубеинско-Тыкотловская, 83 – Хултымьинская, 84 – Новогоднее Монто, 85 – Новоникольская, 86 – Холодная, 87 – Уландрыкское, 88 – Ускандинское, 89 – Базинское, 90 – Мало-Лабышское, 91 – Тайметское, 92 – Убойнинская, 93 – Верхнетарейское, 94 – Порфировая, 95 – Надежда, Павловский, Кошка, 96 – Моронговская, 97 – Болгохтохское, 98 – Арылахское, 99 – Самоедовская, 100 – Гравийское, 101 – Сухарихинское, 102 – Кахтарминская, 103 – Кызык-Чадрское, 104 – Йоко-Довыренское, 105 – Чайское, 106 – Ункурская, 107 – Красное, 108 – Бурпалинское, 109 – Сакинское, 110 – Правоингамакитское, 111 – Западно-Мостовская, 112 – Боровая, 113 – Рябиновое, Ыллымахское, Морозкинское, 114 – Лазурное, 115 – Малахитовое, 116 – Центрально-Анаджакская, 117 – Понийская, 118 – Няндоминское, 119 – Малокомуйское, 120 – Билякчанское, Северный Уй, Боронг, 121 – Росомаха, Джалкан, Харат, 122 – Батько, 123 – Ороек, Лучистое, Весновка, 124 – Агылкинское, 125 – Челасинская, 126 – Дарпирчанская, 127 – Шхиперская, 128 – Бебекан, 129 – Медь-Гора, 130 – Мечивеемская, 131 – Находка, 132 – Кавральянская, 133 – Танюрерская, 134 – Майницкая, 135 – Валагинско-Карагинская, 136 – Снежное, 137 – Квинум, Кувалорог, 138 – Кирганик, 139 – Береговое; 140–149 – техногенные месторождения: 140 – отвал шлака Среднеуральского медеплавильного завода, 141 – Черемшанское шламохранилище Высокогорского рудника, 142 – хвостохранилище Норильской ОФ, 143 – отвалы Аллареченского месторождения, 144 – отвал шлака Карабашского медного комбината (МК), 145 – отвал огарков Кировградского медного комбината (МК), 146 – отвалы Солнечного ГОКа, 147 – хвостохранилище Красноуральской обогатительной фабрики (ОФ), 148 – отвал шлака Локтевского сереброплавильного завода, 149 – отвалы Туимской ОФ, 150 – отвалы Майнской ОФ
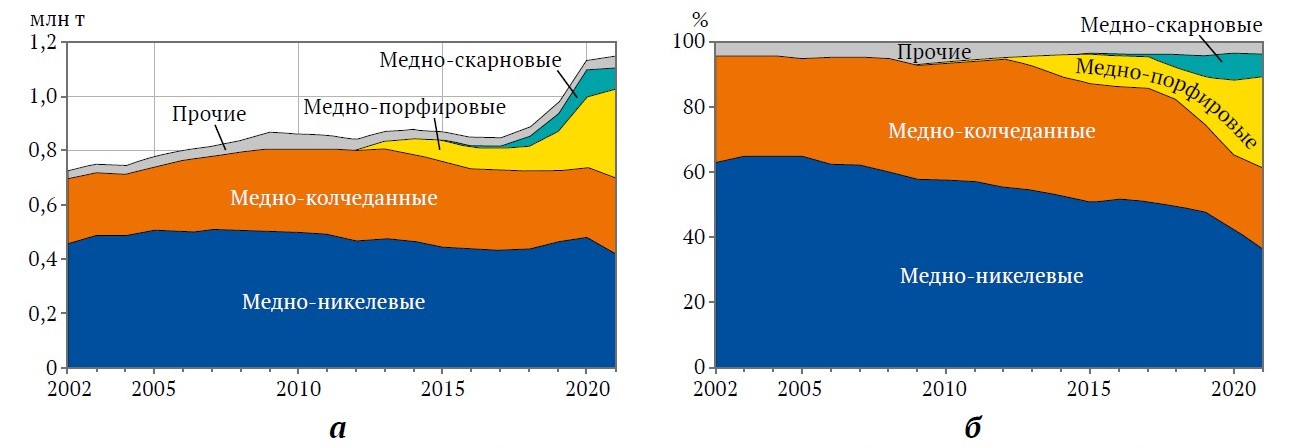
Рис. 2. Динамика добычи меди в России за 2002–2021 гг. по типам медно-рудных формаций: а – объемы, млн т; б – доли от суммарной добычи по Российской Федерации, %
По данным Государственных докладов Минприроды (https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/)
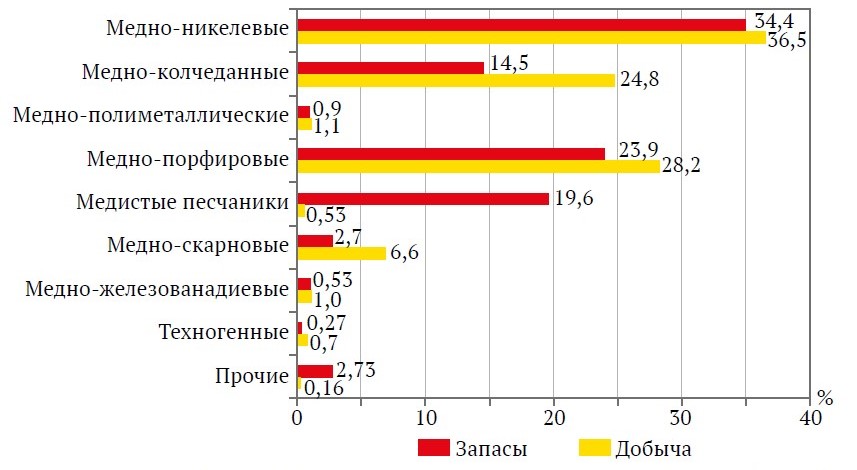
Рис. 3. Доли объемов запасов и добычи (2021 г.) меди по типам меднорудных формаций от общих показателей по Российской Федерации, %
По данным Государственных докладов Минприроды (https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/), Справок о состоянии и перспективах МСБ регионов РФ (http://atlaspacket.vsegei.ru/?v=msb2021#91474d2e700eb6c90) и Я.В. Алексеева [9]
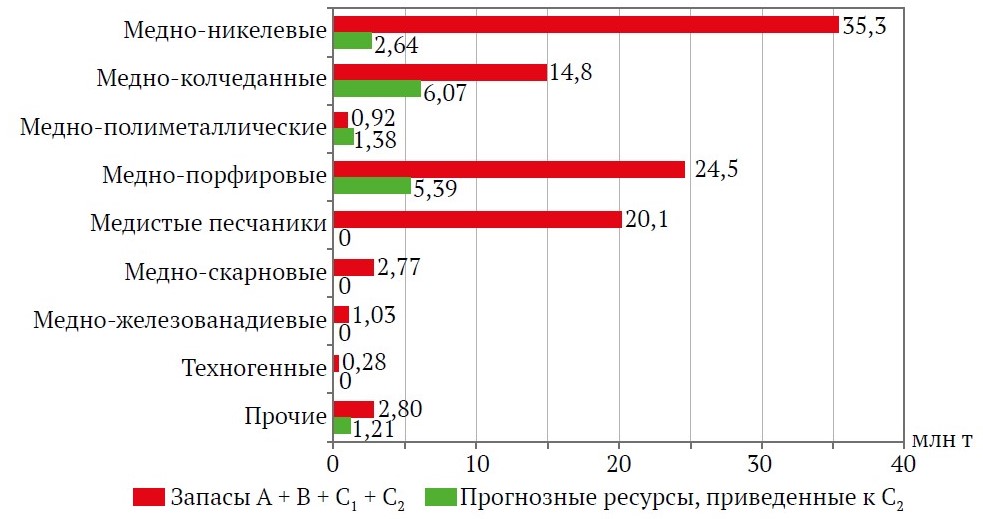
Рис. 4. Объемы балансовых запасов и прогнозных ресурсов меди по типам рудных формаций по состоянию на 2021 г., млн т
По данным Государственных докладов Минприроды (https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/), Справок о состоянии и перспективах МСБ регионов РФ
(http://atlaspacket.vsegei.ru/?v=msb2021#91474d2e700eb6c90) и Я.В. Алексеева [9]
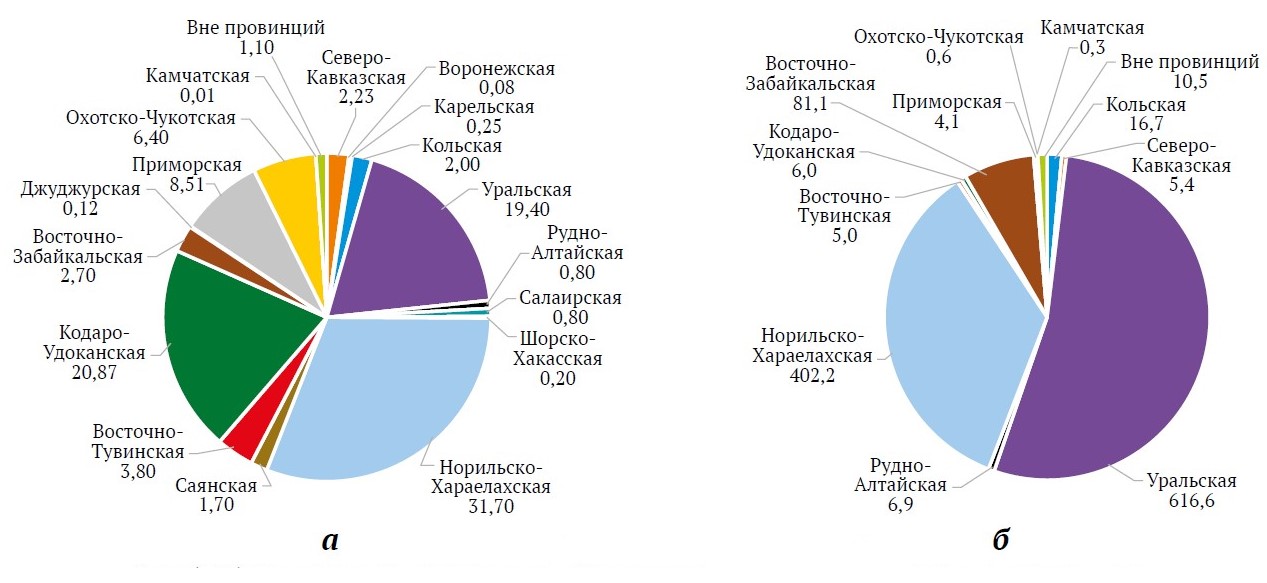
Рис. 5. Объемы учтенных запасов, млн т – a и годовой добычи, тыс. т – б меди по провинциям по состоянию на 2021 г.
По данным Государственных докладов Минприроды (https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/), Справок о состоянии и перспективах МСБ регионов РФ
(http://atlaspacket.vsegei.ru/?v=msb2021#91474d2e700eb6c90) и Я. В. Алексеева [9]
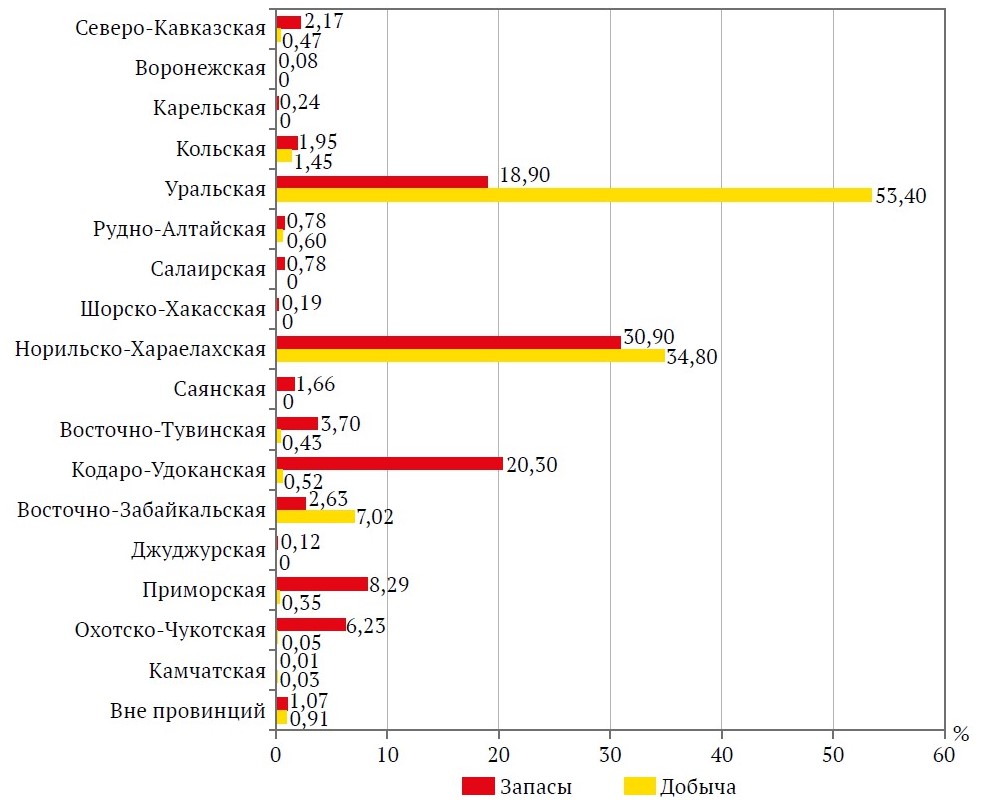
Рис. 6. Доли запасов и добычи (в 2021 г.) меди по провинциям от общих показателей по Российской Федерации, в Донецкой, Приуральской, Центрально-Арктической и Билякчанско-Приколымской учтенные запасы отсутствуют, и добыча не производится
По данным Государственных докладов Минприроды (https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/) и Справок о состоянии и перспективах МСБ регионов РФ
(http://atlaspacket.vsegei.ru/?v=msb2021#91474d2e700eb6c90)
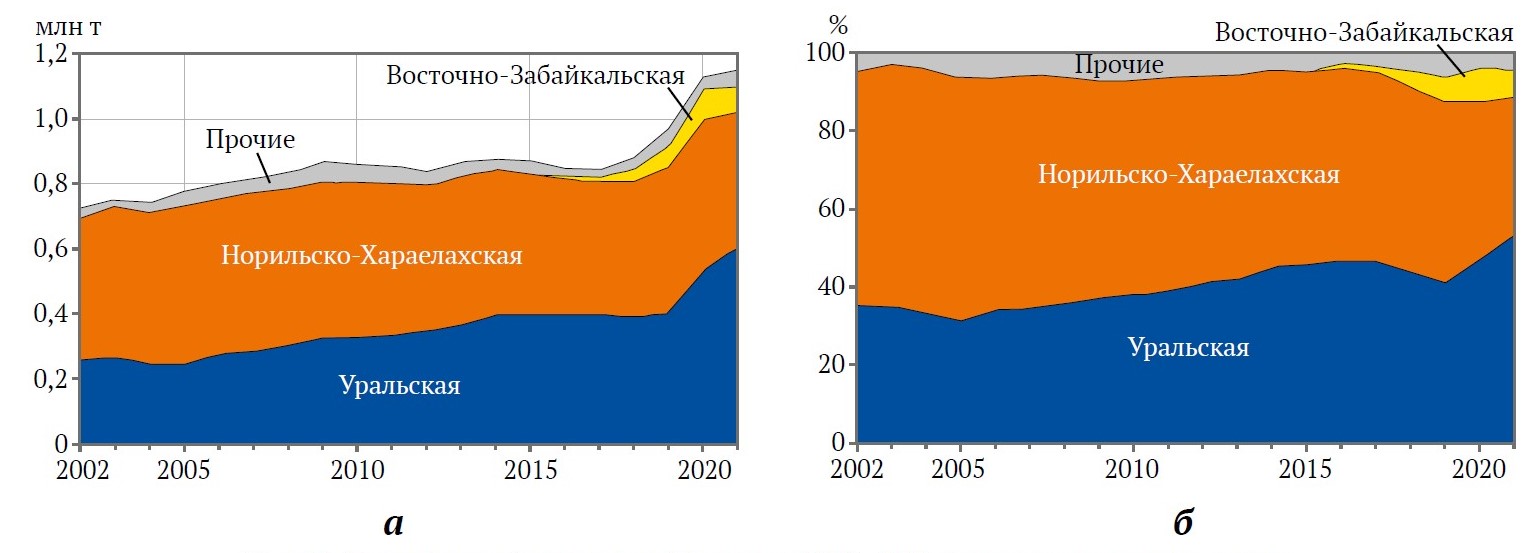
Рис. 7. Динамика добычи меди в России за 2002–2021 гг. по рудным провинциям: a – объемы, млн т; б – доли от суммарной добычи по Российской Федерации, %
По данным Государственных докладов Минприроды (https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_
ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/)
6 U.S. Geological Survey (USGS). URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/
7 Государственные доклады о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2002-2021 гг. МПР РФ, 2022. 626 с. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/
Формации месторождений медных руд
Разработка медных месторождений известна еще с бронзового века и на протяжении всей истории добычи медных руд происходило исследование геологических меднорудных формаций с позиции их привлекательности и значимости в медно-добывающей отрасли.
Первоначально объектами разработки медных руд становились близповерхностные богатые медью руды на месторождениях медно-скарновой, медно-колчеданной формаций и формации медистых песчаников. Еще можно выделить значимую формацию зоны вторичного обогащения гипергенной медью, с богатыми рудами, формировавшимися в близповерхностных условиях на месторождениях практически всех меднорудных формаций, зачастую за счет рядовых и бедных медью руд. Если раньше они были целью и предметом первоочередной разработки этих богатых медью вторичных руд, то к настоящему времени они стали большой редкостью, и эта рудная формация по факту стала экзотикой. Ввиду первоначального преобладания мелких масштабов близповерхностной кустарной разработки объектами действия медных промыслов становились многочисленные мелкие по размеру месторождения, а на средних и крупных медных месторождениях имело место локальное их поражение горными выработками с выхватыванием доступных и наиболее богатых медью фрагментов.
С увеличением потребительского спроса на медь в эксплуатацию стали вовлекать более крупные по запасам месторождения богатых руд медно-колчеданной и медно-никелевой формаций. Было отработано значительное по запасам уникальное и экзотическое месторождение самородной меди в базальтоидах (месторождение Верхнего Озера, США).
Развитие технологий флотационного обогащения сульфидных руд позволило вовлечь в эксплуатацию месторождения с вкрапленной медной минерализацией с относительно бедными медными рудами, но со значительными объемами рудной массы. В производство были вовлечены месторождения медно-порфировой формации, которые к настоящему времени лидируют по объемам поставок меди на рынок. Флотационные технологии позволили также извлекать медный концентрат на месторождениях других рудных формаций с попутной медной минерализацией (полиметаллическая, малосульфидная платинометалльная, кварцево-сульфидная, карбонатитовая и др.). Новые технологии обогащения (флотации, гидрометаллургии) позволили вовлечь в эксплуатацию также вкрапленные медные руды на месторождениях формаций, в которых ранее разрабатывались только богатые руды (медно-никелевая, медно-колчеданная, медистых песчаников).
Гидрометаллургические технологии кучного и подземного выщелачивания позволяют вовлекать в эксплуатацию принципиально новые объекты формации техногенных месторождений (отвалов, дренажных вод горных выработок и др.), а также ранее малопривлекательные мелкие месторождения медных руд и медьсодержащих образований.
Медно-никелевая формация представляет собой специфичную мафит-ультрамафитовую магматическую формацию, где в процессе внедрения магм происходила дифференциация и ликвация расплава на силикатную и сульфидную жидкости с концентрированием сульфидного расплава в придонных частях магматических интрузивов [10–12]. При этом формируются пласто-, плито- и линзообразные залежи богатых сливных руд и горизонтов (рифов) вкрапленной медно-никелевой минерализации. Дифференциация и кристаллизация расплава может происходить неоднократно, но наиболее крупные месторождения преимущественно богатых сливных медно-никелевых руд формируются в течение одного длительного цикла в структурах окраин платформ (норильский тип) и кратонов (печенгский тип) [13]. В условиях множественности циклов дифференциации и ликвации расплава происходит формирование пластов и горизонтов преимущественно вкрапленной медно-никелевой минерализации, а также платинометалльной минерализации с попутным медно-никелевым оруденением [14]. Такие медно-никелевые месторождения встречаются и в структурах окраин платформ кратонов (мончегорский тип в ультрамафитах), и преимущественно в металлогенических орогенных зонах подвижных поясов в мафитовых комплексах [13]. Следует отметить, что в месторождениях преимущественно вкрапленных руд отношение содержаний никеля и меди возрастает с 0,5–1,0 иногда до высоких значений (до 6,5 на месторождении Шануч), снижая тем самым экономическую значимость меди на этих объектах, а также возрастает концентрация и экономическая значимость металлов платиновой группы. Медно-никелевая минерализация присутствует также как попутный компонент в месторождениях малосульфидной платинометалльной формации.
Интерес к медно-никелевой формации формировался первоначально исходя из значимости никелевой ее составляющей, а медь в ней была вторичным, иногда побочным продуктом. Но в результате вовлечения в 1960–1970-х годах в эксплуатацию богатых руд крупных Норильских месторождений медно-никелевая формация стала лидером в балансе национальной добычи меди, составляя в 2000-х годах 60–65 % российской добычи. Но с учетом некоторого сокращения объемов добычи медно-никелевых руд (с 500 тыс. т/год до 430 тыс. т в 2021 г.) и вводом в эксплуатацию новых медных месторождений медно-порфировой и медно-скарновой формаций доля медно-никелевой формации уменьшилась к 2021 г. до 36,5 % от российской добычи (см. рис. 2, 3). Тем не менее по учтенным запасам и ресурсам меди на медно-никелевую формацию приходится 34,4 % балансовых запасов и 15,8 % приведенных к условным запасам прогнозных ресурсов [9], т.е. лидирующее положение этой формации по запасам сохраняется (см. рис. 3, 4).
Месторождения богатых (сливных) медно-никелевых руд находятся в Норильско-Хараелахской и Кольской провинциях, месторождения преимущественно вкрапленных медно-никелевых руд – в Воронежской, Кольской, Саянской, Северо-Байкальской и Джугджурской провинциях, а месторождения малосульфидной платинометалльной формации с попутной медно-никелевой минерализацией – в Карельской, Карякской и Камчатской провинциях.
Медно-колчеданная формация представляет собой смешанную группу месторождений вулканогенного гидротермально-осадочного и гидротермально-метасоматического генезиса сливных сульфидных руд с ведущей ролью пирита и медных сульфидов [15, 16]. Морфологически они представляют собой пласто- и линзообразные залежи массивных сульфидных руд, зачастую сопровождаемые ореолами вкрапленной сульфидной минерализации. Выделяются медно-колчеданный тип месторождений в базальтоидных формациях эвгеосинклиналей, медно-цинково-колчеданный тип в риолит-базальтовых формациях эвгеосинклиналей и специфичный кипрский тип кобальтоносных медно-колчеданных месторождений [17]. Следует отметить, что имеют место сходство и парагенетическая связь месторождений медно-колчеданной и медно-никелевой формаций [18].
Начиная с XIX в. и до 1950-х годов продукция с месторождений медно-колчеданной формации лидирует в российской добыче меди, уступив в дальнейшем лидерство медно-никелевой формации. В 2000–2020-е годы уровень добычи из медно-колчеданных месторождений составляет 230–330 тыс. т/год (23–38 % от российской добычи) и в 2021 г. 285 тыс. т (24,8 %), см. рис. 2, 3. По учтенным запасам и ресурсам меди на медно-колчеданную формацию приходится 14,5 % балансовых запасов и 36,3 % приведенных к условным запасам прогнозных ресурсов [9] (см. рис. 3, 4), что свидетельствует о срабатывании подготовленных запасов наиболее богатых массивных руд, но и наличии возможных резервов в виде ранее не разрабатываемых месторождений вкрапленных медно-колчеданных руд. Ввиду выработки большей части объектов близповерхностных сливных медно-колчеданных руд наметилась тенденция перехода на разработку глубоких горизонтов массивных руд и вовлечение в эксплуатацию вкрапленных руд на флангах разрабатываемых месторождений.
Наибольшее количество медно-колчеданных месторождений находятся в Уральской провинции, на которую приходится свыше 90 % добычи руд этой формации, присутствуют они также на территориях Северо-Кавказской, Карельской, Рудно-Алтайской, Салаирской и Восточно-Тувинской провинций.
Медно-полиметаллическая формация представляет собой по сути дела генетическую копию вулканогенной медно-колчеданной формации, в которой главными компонентами являются цинк и свинец, а медная минерализация второстепенна [19, 20]. Объемы добычи попутной меди на российских месторождениях полиметаллической формации небольшие и составляют 12–30 тыс. т/год (1,1–3,5 % от российской добычи) и в 2021 г. 12,3 тыс. т (1,1 %), см. рис. 2, 3. По учтенным запасам и ресурсам меди на медно-полиметаллическую формацию приходится 0,9 % балансовых запасов и 8,3 % приведенных к условным запасам прогнозных ресурсов [9] (см. рис. 3, 4). Такой дисбаланс запасов и ресурсов сложился в результате критического отношения к меди как попутному компоненту, требующему усложнения технологии обогащения, не всегда эффективной и экономически рентабельной. В результате на стадии геологической оценки месторождений попутные компоненты учитываются по максимуму, а при разведке и проектировании добычного предприятия зачастую они переводятся в забалансовые запасы. Месторождения медно-полиметаллической формации доминируют в Салаирской и Рудно-Алтайской провинциях, а также присутствуют на территориях Северо-Кавказской, Карельской, Восточно-Тувинской и Охотско-Чукотской провинций.
Медно-порфировая формация является безусловным мировым лидером и по объемам добычи меди и молибдена, а также по их запасам и прогнозным ресурсам. Месторождения порфирового типа представляют собой крупнообъемные тела прожилково-вкрапленных сульфидных медно-молибденовых образований, приуроченных к интрузивным телам, зачастую с порфировой текстурой (первопричина наименования этой рудной формации), являющиеся субстратом для оруденения [21, 22]. Интерес к этим относительно небогатым, но огромным по ресурсам месторождениям возник с развитием технологий обогащения – гравитационного, а затем и весьма эффективного флотационного обогащения сульфидов. В результате формация порфировых месторождений меди и молибдена стала главным источником для добычи этих металлов [23]. Кроме меди и молибдена, на месторождениях этого типа из добытых руд извлекаются значимые объемы сопутствующих компонентов – Au, Ag, Re. Зачастую медно-порфировая формация месторождений трактуется как Mo–Cu–Au-формация [24]. В рамках порфировой формации выделяются рудно-формационные типы: золото-медно-порфировый в базальтоидных вулканогенно-плутонических поясах (островодужных и рифтогенных) и молибден-медно-порфировый в андезитовых вулканогенно-плутонических поясах, формирующихся в результате активизации на субстрате различного состава и возраста [25, 26].
Месторождения медно-порфировой формации в условиях совместной экономики СССР в России не разрабатывались ввиду наличия достаточных действующих добывающих производств Коунрадского (Казахстан) и Алмалыкского (Узбекистан) ГОКов. Тем не менее на территории России они были известны и по мере возможности вовлекаются в эксплуатацию, а также являются предметом поисков, оценки и разведки новых медно-порфировых месторождений. По учтенным запасам и ресурсам меди на медно-порфировую формацию приходится 23,9 % балансовых запасов и 32,3 % приведенных к условным запасам прогнозных ресурсов [9] (см. рис. 3, 4). Начиная с 2013 г. начата эксплуатация медно-порфировых месторождений в Уральской провинции, к 2021 г. уровень добычи из месторождений этой формации увеличился до 323 тыс. т (28,2 % от российской добычи), см. рис. 2, 3. Подготавливаются к эксплуатации трансграничное медно-порфировое месторождение в Челябинской области (на границе с Казахстаном), а также месторождения в Восточно-Тувинской и Приморской провинциях, ведутся геологоразведочные работы в Восточно-Забайкальской и на севере Охотско-Чукотской провинций, перспективны на предмет поисков и оценки многие площади и объекты на территории уже названных провинций, а также в Кольской, Центрально-Арктической, Умлекано-Огоджинской и Камчатской провинциях.
Формация медистых песчаников включает в себя стратиформные месторождения в осадочных породах с высаженными на геохимических барьерах медносульфидными образованиями с эксгаляционными источниками меди в морской воде или переведенных в раствор путем выщелачивания медьсодержащих пород инфильтруемыми пластовыми водами [27, 28, 29, 30]. По объемам добычи и запасам формация медистых песчаников занимает второе место в мире после медно-порфировой формации.
На территории России мелкие месторождения медистых песчаников разрабатывались на территории Приуральской провинции вплоть до середины XIX в. В условиях совместной экономики СССР при наличии гигантского разрабатываемого месторождения медистых песчаников Джезказган в Казахстане в России велись только поиски и разведка месторождений этой формации. Выявленное в 1949 г. сверхкрупное Удоканское месторождение медистых песчаников в Кадаро-Удоканской провинции находилось ранее (до строительства Байкало-Амурской магистрали) вдалеке от развитой инфраструктуры в сложных условиях горной тундры и лишь в 2023 г. было запущено в эксплуатацию, а на близлежащих перспективных площадях ведутся геологоразведочные работы. Добыча меди на Удоканском месторождении формации медистых песчаников в 2021 г. составила 6,1 тыс. т (0,5 % от российской добычи), к 2027 г. планируется ее увеличение до 65 тыс. т (6–7 %), а в дальнейшем – до 175 тыс. т/год (до 15–17 %). По учтенным запасам меди на формацию медистых песчаников приходится 19,6 % балансовых запасов, а вот апробированных прогнозных ресурсов этой формации на учете нет [9]. Кроме вышеназванных провинций, месторождения и проявления медистых песчаников известны в Донецкий, Игарской, Шорско-Хакасской и Билякчанско-Приколымской провинциях.
Медно-скарновая формация представлена контактово-метасоматическими месторождениями на контакте интрузивов от основного до кислого состава с известковыми осадочными породами, где новообразования скарнов являются субстратом для наложенной медной минерализации [31, 32]. Собственно медные скарновые месторождения представляют собой богатые, но мелкие по запасам объекты (Уральская и Шорско-Хакасская провинции), и практически все из них к настоящему времени отработаны. Разрабатываются скарновые месторождения с попутной медной минерализацией, но этот источник также незначителен по возможностям добычи меди (1–2 тыс. т/год). Наибольшие перспективы имеет тип медно-железорудных скарнов, где медная прожилково-вкрапленная минерализация наложена именно на субстрат железорудных тел [33]. Начиная с 2013 г. начата эксплуатация месторождений медно-железорудно-скарновой формации в Восточно-Забайкальской провинции и к 2020 г. уровень годовой добычи на месторождениях этой формации вырос с 3 до 94 тыс. т (8,3 % от российской добычи), см. рис. 2, 3. Подготавливаются к эксплуатации новые месторождения медно-скарновой формации в Уральской и Восточно-Забайкальской провинциях, разведываются объекты и опоисковываются новые площади в Уральской, Кадаро-Удоканской и Охотско-Чукотской провинциях, а также вне территорий известных провинций. По учтенным запасам меди на медно-скарновую формацию приходится 2,7 % балансовых запасов, но апробированных прогнозных ресурсов этой формации на учете нет [9], см. рис. 3, 4.
Медно-железорудная ванадийсодержащая магматическая формация представлена в России уникальным Волковским месторождением комплексных апатит- и ванадийсодержащих титаномагнетитовых и медносульфидных руд с сопутствующей золото-палладиевой минерализацией, сформированных в процессе дифференциации и кристаллизации одноименного габброидного массива с формированием линз вкрапленной сульфидной и титаномагнетитовой минерализации [34]. Добыча меди на Волковском месторождении составляет 4–12 тыс. т/год (0,5–1,1 % от российской добычи) и в 2021 г. – 12,6 тыс. т (1,1 %), см. рис. 2, 3. Проявления медно-железованадиевой магматической формации довольно редки, но схожее с Волковским типом железо-медных руд имеют месторождение Векша и проявление Пудожгорское в Карельской провинции, Колвицкое месторождение на Кольском полуострове и проявление Погореловское в Челябинской области. Доли запасов Cu–Fe–V формации в России невелики и составляют 1,03 млн т (0,53 % от российских запасов), см. рис. 3, 4. Прогнозных ресурсов Cu–Fe–V формации на учете нет.
Формация самородной меди интересна исходя из исторического опыта разработки уникального крупного и богатого месторождения самородной меди Верхнего Озера (США) в миндалекаменных диабазах покровных эффузивов, отработанного еще в XIX в., на котором добыто свыше 4,5 млн т меди [35]. Обнаружение подобных месторождений со столь качественными медными рудами всегда было целью поиска во всех странах, в том числе и в России, но серьезного успеха они не имели [36]. Тем не менее на территории России известны месторождения и проявления самородной меди в вулканогенных отложениях на территории Уральской, Шорско-Хакасской, Норильско-Хараелахской и Билякчанско-Приколымской провинций, причем среди них имеются достаточно крупные объекты – Тайметское (Горная Шория, Кемеровская область) и Арылахское (север Красноярского края) месторождения.
Рудные формации с попутной медной минерализацией включают несколько разнотипных рудных формаций, где медь является лишь второстепенным попутным компонентом.
Экономически наиболее значима из них формация малосульфидных платинометалльных руд с попутной медно-никелевой минерализацией в виде вкрапленного оруденения в магматических комплексах мафитов и ультрамафитов орогенных зон от архейского до неогенового возраста [13, 37, 38, 39]. Месторождения и проявления этого типа становятся предметом поисковых и разведочных работ в первую очередь ввиду привлекательности добычи платиноидов и известны в Воронежской, Карельской, Кольской, Норильско-Хараелахской, Саянской, Северо-Байкальской, Джугджурской, Охотско-Чукотской, Корякской и Камчатской провинций. Балансовые запасы и прогнозные ресурсы месторождений малосульфидной формации в настоящее время учитываются в составе традиционной медно-никелевой формации.
Кварцево-сульфидная формация с попутной медной минерализацией, включающая генетически разнообразные рудные формации цветных (олово, вольфрам) и драгоценных (золото, серебро) металлов. Ведется попутная добыча медного концентрата на оловянных [40] и вольфрамовых [41] месторождениях Приморской провинции, а также на многих золоторудных месторождениях [41] вне известных медных провинций.
Медная минерализация может проявляться и в пределах образований карбонатитовой формации, что имеет место на разрабатываемом медно-цирконий-фосфатном карбонатитовом месторождении Палабора в ЮАР [42]. Проявления карбонатитов с рассеянной медно-сульфидной минерализацией известны на полуострове Таймыр и в карбонатитовых массивах Маймеча-Котуйской провинции.
Техногенная формация представляет собой результат антропогенного воздействия на недра, в результате которого формируются новые месторождения техногенного сырья (отвалы вскрышных пород и некондиционных руд, хранилища хвостов и промежуточных продуктов обогатительных производств, отвалы шлаков и огарков металлургического передела руд, минерализованные рудничные воды) [43, 44]. С извлечением меди ведется переработка шлаков из отвалов Среднеуральского медеплавильного завода {№ 140} и шламов Черемшанского хранилища Высокогорского рудника {№ 141} в Свердловской области (до 16 тыс. т/год), в также из хвостов Норильской обогатительной фабрики ОФ {№ 142} (до 1,5 тыс. т/год)8, №№ объектов – см. рис. 1. Подготавливаются к эксплуатации отвалы некондиционных руд Аллареченского месторождения {№ 143} в Мурманской области [45], отвалы шлаков Карабашского медного комбината {№ 144} в Челябинской области и пиритные огарки Кировградского МК {№ 145} в Свердловской области [43], отвалы Солнечного ГОКа {№ 146} в Хабаровском крае9. Оценивается возможность эксплуатации отвалов Красноуральской обогатительной фабрики {№ 147} в Свердловской области, шлаков Локтевского сереброплавильного завода {№ 148} в Алтайском крае, а также отвалов Туимской {№ 149} и Майнской {№ 150} обогатительных фабрик в Хакассии. Оцененные запасы меди на техногенных месторождениях России составляют 270 тыс. т, добыча – 8–16 тыс. т/год (0,7–1,9 % от российской добычи) и в 2021 г. 8,5 тыс. т (0,7 %), см. рис. 3, 4. Ресурсы техногенных месторождений являются недооцененными ввиду ограниченности геологоразведочных работ на хвостохранилищах обогатительных фабрик (лишь на 4 из 36 действующих и остановленных ОФ) и лишь на единичных отвалах некондиционных руд разрабатываемых и законсервированных месторождений [46].
8 Государственные доклады о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2002-2021 гг. – МПР РФ, 2022. 626 с. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/
9 Там же.
Меднорудные провинции
Северо-Кавказская провинция включает вулканогенно-осадочные структуры Передового хребта и Приводораздельной зоны вдоль границы Скифской платформы и складчатого сооружения Большого Кавказа. Здесь известны многочисленные месторождения медно-колчеданной формации, с 50-х годов XX в. ведется эксплуатация Урупского месторождения {№ 12} [47], которое к настоящему времени значительно выработано, добыча в 2021 г. – 5,4 тыс. т, подготавливаются к эксплуатации Худесское, Скалистое и Первомайское месторождения {№ 44}, зафиксировано свыше 100 рудопроявлений, разведано и находится в резерве месторождение Кизил-Дере {№ 40} с запасами меди 1,17 млн т 100 % Cu со средним содержанием в рудах 2,14 % Cu [48]. Всего по Северо-Кавказской провинции учтено 2,23 млн т балансовых запасов меди (2,17 % от российских запасов), а годовая добыча в 2021 г. составила 5,4 тыс. т (0,47 % от российской добычи), рис. 5, 6.
Донецкая провинция представляет собой площадь распространения формации медистых песчаников картамышинской свиты нижнепермских отложений в Днепрово-Донецком прогибе Восточно-Европейской платформы. Добыча меди здесь осуществлялась еще в эпоху бронзового века (проявления Картамышское, Выскривка, Пилипчатино и др.) и вплоть до XIX в. [49]. Здесь выделяются Бахмутская ({№ 71}, 28 проявлений) и Кальмиус-Торецкая (3 проявления) перспективные площади на предмет обнаружения значимых месторождений медистых песчаников [50]. В 60-е годы XX в. трест «Артемгеология» опоисковывал минерализованные участки в Картамышинской мульде с выделением пластов, обогащенных медью (проявления Берестянское, Кислый Бугор и др.), а также с наличием не только медной, но и свинцово-цинковой минерализации (Серебрянское, Суходольское, Однобоковское) [51]. Донецкая провинция является лишь частью площадей распространения медистых песчаников по периферии Украинского щита вплоть до Придобруджского прогиба на западе [52].
Воронежская провинция приурочена к известному Воронежскому кристаллическому массиву (ВКМ), в пределах которого известны месторождения и проявления сульфидных платиноидно-медно-никелевых руд еланского типа (Еланское и Ёлкинское месторождения, а также более 20 рудопроявлений), генетически связанных с норитами субвулканической ортопироксенит-норит-диоритовой формации, и мамонского типа (месторождения Нижнемамонское, Подколодновское, Юбилейное, многочисленные рудопроявления в Нижнемамонском и Аннинском рудных районах), ассоциирующих с ультрамафитами дунит-перидотит-пироксенит-габброноритовой формации [53]. Еланское и Елкинское МПГ-медно-никелевые месторождения {№ 45} наиболее подготовлены к эксплуатации, запасы меди по ним составляют 58,8 и 17,3 тыс. т соответственно, но несмотря на благоприятные условия серьезным препятствием для их освоения являются проблемы отчуждения плодородных земель и нахождение близ них природоохранных территорий. По Воронежской провинции учтено 0,08 млн т балансовых запасов меди (0,08 % от российских запасов), см. рис. 5, 6.
Карельская провинция находится в восточной части Фенноскандинавского кристаллического щита. Добыча меди велась здесь еще в XVIII в. (рудники Воицкий, Вороновоборский, Пялозерский и др.) на небольших медно-колчеданных месторождениях, но они были выработаны еще в XIX в. В результате геологического изучения к настоящему времени известны месторождения медно-колчеданной рудной формации в Центрально-Карельской (Ведлозерское, Хаутаваарское, Чалкинское и др.), Сумозерско-Выгозерской (Парандовское) и Западно-Карельской (Ялонваарское) минерагенических зонах медно-никелевой сульфидной ультрамафит-мафитовой формации (Восточно-Вожминское месторождение, связанное с Вожминским массивом ультрабазитов, и Лебяжинское месторождение в пределах Кумбуксинского массива ультрамафитов) и коматиитовой формации (проявления Золотопорожское, Лещевское, Рыбозерское в металавах базальтов и коматиитов Сумозерско-Кенозерского зеленокаменного пояса), медно-молибден-порфировой формации (месторождения Лобаш, Пяяваара, Ялонвара), малосульфидной платинометалльно-титано-ванадиевой формации в Койкарско-Святнаволокской минерагенической зоне (месторождение Викша в разрезе Койкарского габбро-долеритового силла) и формации медистых песчаников (отработанное месторождение Воронов Бор и ряд рудопроявлений) [54]. На месторождениях Викша {№ 65} [55] и Лобаш-1 {№ 66} [56] проведены геологоразведочные работы с подсчетом запасов – 125 и 56,4 тыс. т Cu соответственно. В юго-восточной части провинции на территории Астраханской области также зафиксировано более 50 медно-никелевых проявлений, но поисковыми работами ранее были охвачены только два массива каматиитового каменноозерского комплекса, с которым связано Волошовское медно-никелевое месторождение {№ 72}, оцененное буровыми работами на глубину. Вскрыто вкрапленное сульфидное оруденение, подсчитаны ресурсы в 277 тыс. т меди при среднем содержании 0,15 % Cu [57]. По Карельской провинции учтено 0,25 млн т балансовых запасов меди (0,24 % от российских запасов), см. рис. 5, 6.
Кольская провинция расположена на севере Фенноскандинавского щита, где в пределах рифтогенного Печенга-Имандра-Варзугского зеленокаменного пояса известно множество палеопротерозойских расслоенных интрузий, в т.ч. несколько рудоносных (МПГ–Cu–Ni), входящих в состав Печенгского, Мончегорского и Федорово-Панского рудных районов, включающих месторождения формаций сульфидных медно-никелевых руд и малосульфидных платинометалльных руд с попутной медно-никелевой минерализацией [58].
В пределах Печенгского рудного района выделяются два рудных узла, включающих сближенные месторождения сульфидной медно-никелевой формации расслоенных мафитов и ультрамафитов [59]: Западный (месторождения Котсельваара-Каммикиви и Семилетка) и Восточный (Ждановское, Заполярное, Быстринское, Тундровое, Спутник и Верхнее). Разработка месторождений Западного узла ведется с 1930-х годов XX в., Восточного – с 1960-х годов. К настоящему времени большая часть запасов месторождений Котсельваара-Каммикиви, Семилетка, Тундровое и Заполярное в виде богатых сливных медно-никелевых руд выработаны и они законсервированы. В настоящее время разрабатывается Ждановское месторождение вкрапленных медно-никелевых руд (запасы 840,5 тыс. т Cu при среднем содержании 0,31 % Cu), подготавливаются к освоению месторождения Быстринское, Спутник и Верхнее.
Мончегорский рудный район включает ряд месторождений и проявлений, известных еще с 1930-х годов, имеющих признаки и сульфидных медно-никелевых руд, и малосульфидных платинометалльных руд со слабой медно-никелевой минерализацией [60]. Из них наиболее крупные объекты сульфидных медно-никелевых руд – Поаз (ресурсы 443 тыс. т Cu при среднем содержании 0,13 % Cu) и Нюд (188 тыс. т, 0,24 % Cu) {№ 75}, Ниттис-Кумужья-Травяная (229 тыс. т, 0,16 % Cu) и Сопча – рудный пласт 330 (109 тыс. т, 0,23 % Cu) {№ 76}, Арваренч (246 тыс. т, 0,26 % Cu) и Морошковое озеро (172 тыс. т, 0,20 % Cu) {№ 77}. Из объектов малосульфидных платинометалльных руд со слабой медно-никелевой минерализацией можно привести Лойпишнюн [61], Южная Сопча, Вуручуайвенч с ресурсами меди 30–50 тыс. т.
Федорово-Панский рудный район {№ 78} малосульфидных платинометалльных руд со слабой медно-никелевой минерализацией. Обнаруженные здесь месторождения и проявления оценивались в первую очередь на платиноиды и в меньшей степени на другие компоненты, в т.ч. на медь и никель. Наиболее крупные из выявленных объектов – Федоровотундровское и Киевей [62], а также Восточный Чуавры [63] – представляющие собой горизонты рифов в расслоенных мафитах.
Из других медных геологических формаций в пределах Кольской провинции известно медно-молибден-порфировое месторождение Пеллапахк {№ 74} (ресурсы 203 тыс. т, 0,15 % Cu), по проведенным работам оценено как гранично-рентабельное [64] и Колвицкое месторождение {№ 73} медно-железной ванадийсодержащей магматической формации [65].
Всего по Кольской провинции учтено 2,0 млн т балансовых запасов меди (1,95 % от российских запасов), а годовая добыча в 2021 г. составила 16,7 тыс. т (1,48 % от российской добычи), см. рис. 5, 6.
Приуральская провинция расположена в пределах предуральского краевого прогиба Восточно-Европейской платформы, где в верхнепермских отложениях уфимского, казанского и татарского ярусов распространены многочисленные месторождения и проявления формации медистых песчаников [66]. Они разрабатывались с бронзовой эпохи вплоть до середины XIX в. По археологическим данным на этих территориях в разработке находилось свыше 500 участков развития медистых песчаников [67]. Ввиду небольших размеров и соответственно запасов эти проявления медистых песчаников малопривлекательны для традиционных способов открытой отработки, но весьма перспективны для использования геотехнологических способов подземного выщелачивания меди [68].
Уральская провинция расположена в пределах Уральской орогенической системы. Здесь известны сотни месторождений и рудопроявлений медно-колчеданной, медно-порфировой, медно-скарновой, магматической ванадийсодержащей медно-железорудной формаций, а также формаций медистых песчаников и самородной меди [69]. На территории Уральской провинции сосредоточено 19,4 млн т подготовленных запасов меди (18,9 % от российских) и осуществляется добыча 707 тыс. т меди, или 52,5 % от национальной добычи (см. рис. 5, 6), причем имеется тенденция роста во времени и объемов добычи, и доли добычи Уральской провинции в балансе России (рис. 7). Кроме этого, на уральских заводах перерабатывается до 490 тыс. т/год импортируемого из Республики Казахстан медного концентрата10.
Месторождения медно-скарновой формации являлись первыми объектами разработки в историческом Уральском горнопромышленном районе. Это отработанные к настоящему времени месторождения Турьинской группы [70], а также Гумешевское [71], Медноруднянское [72] {№ 7} и другие месторождения, небольшие по размеру и запасам, но бывшие привлекательными из-за богатства руд в развитых на них зонах вторичного обогащения. Тем не менее возможности вовлечения в настоящее время месторождений медно-скарновой формации имеются, в частности – подготавливается к эксплуатации месторождение Северное-3 {№ 54}, а также оценивается на предмет медной минерализации золото-железорудное скарновое месторождение Новогоднее Монто {№ 84} на Полярном Урале [73]. На Гумешевском медно-скарновом месторождении {№ 39} отдельным промышленным типом были выделены рыхлые карстовые осадки переотложеных окисленных медных руд – т.н. «медистые глины» [74]. С 2004 г. они стали предметом разработки методом подземного выщелачивания меди с годовой добычей 1,0–3,5 тыс. т/год [75] при имеющихся оцененных ресурсах 455 тыс. т [9].
Месторождения медно-колчеданной формации распространены в виде многочисленных проявлений и месторождений в пределах палеозойских палеовулканических поясов (Щучьинско-Тагильский, Сакмарский или Кракинско-Медногорский, Западно- и Восточно-Магнитогорский, Каменский, Катенинский, Октябрьско-Денисовский, Иргизский) и зон (Большаковско-Рефтинская, Биргильдинско-Поляновская, Колпаковская, Еленовско-Кумакская, Бурыктальско-Кундыбаевская) Южного и Среднего Урала [69]. Месторождения медно-колчеданной формации на протяжении многих десятков лет служат традиционным источником сырья для медьдобывающих предприятий Южного и Среднего Урала [76]. Многие месторождения уже вышли из эксплуатации или законсервированы (Дергамышское {№ 3}, Сибайское {№ 4}, Учалинское {№ 5}, Александринское {№ 6}, Тарньерское {№ 8} и другие). В разработке находятся месторождения Гайское {№ 14} (запасы 4,37 млн т 100 % Cu, среднее содержание 1,32 % Cu, добыча 2021 г. 93 тыс. т Cu) [77], Осеннее, Весенне-Аралчинское, Джусинское, Ново-Сибайское, Юбилейное {№ 17} (запасы 1,24 млн т, 1,65 % Cu, добыча в 2021 г. – 22 тыс. т Cu) [78], Камаганское, Озерное, Западно-Озерное {№ 19} (запасы 373 тыс. т, добыча 2021 г. 11 тыс. т Cu) [79], Талганское, Узельгинское, Молодежное, Чебачье и Ново-Шемурское11. Подготавливаются к эксплуатации медно-колчеданные месторождения Подольское и Северо-Подольское {№ 47}, Вишневское {№ 48}, Ново-Учалинское {№ 49} (запасы 1,09 млн т 100 % Cu, среднее содержание 0,98 % Cu) [80], Султановское {№ 50} (запасы 67 тыс. т, 3,25 % Cu), Маукское {№ 51} (запасы 47 тыс. т, 1,58 % Cu), Тарутинское {№ 52} (запасы 64 тыс. т, 1,33 % Cu), Саумское {№ 53} (запасы 21 тыс. т, 2,78 % Cu) и Северо-Калугинское12. В резервном фонде находится Комсомольское месторождение медно-колчеданных руд {№ 41} (запасы 504 тыс. т, 1,78 % Cu). Поиски медно-колчеданных месторождений в пределах Уральской провинции осуществляются на Блявинской {№ 80}, Мембетовская-Карагайской (ресурсы 520 тыс. т) и Новопетровской {№ 81} перспективных площадях Южного и Среднего Урала13, а также на Приполярном Урале {№ 82} (Вольинский и Грубеинско-Тыкотловский рудные районы) [81].
Вторым по значимости в Уральской провинции является медно-порфировая формация, представленная месторождениями в пределах Северо-Сосьвинского, Вольинского и Грубеинско-Тыкотловского вулканогенных поясов Южного Урала, преимущественно в восточной его части [82]. В разработке находятся Томинское {№ 22} (запасы 3,85 млн т 100 % Cu, среднее содержание 0,34 % Cu, добыча в 2021 г. 212 тыс. т Cu) и Михеевское {№ 23} (запасы 1,8 млн т, 0,37 % Cu, добыча в 2021 г. 103 тыс. т Cu) медно-порфировые месторождения [83], ведутся оценочные работы на Биргильдинском, Западном и Тарутинском участках близ Томинского месторождения, требуют также оценки медно-порфировые проявления Северо-Ирендыкской, Верхнеуральской и Домбаровско-Ащебутакской [84] и Алапаевско-Сухоложской [85] металлогенических зон Среднего Урала.
На территории Уральской провинции находится уникальное разрабатываемое Волковское месторождение {№ 26} магматической медно-железорудной ванадийсодержащей формации [86] (запасы 805 тыс. т 100 % Cu, среднее содержание 0,63 % Cu, добыча в 2021 г. 13 тыс. т Cu). Образования магматической медно-железорудной ванадийсодержащей формации во многих проявлениях имеют переходы к схожим с ними по составу медно-скарновым образованиям.
В Приполярной части Уральской провинции в пределах Ляпинской минерагенической зоны имеются проявления формации медистых песчаников – стратиформных гидрослюдистых медистых (Мусюрское, Косьюнское и Теснинное) и полиметаллических (Кожимское) песчаников [87].
На Северном Урале известны проявления формации самородной меди в Хултымьинской минерализованной зоне, приуроченной к миндалекаменным оливиновым базальтам и их туфам в вулканитах турнейского яруса нижнего карбона [88].
Рудно-Алтайская провинция в пределах Российской Федерации представляет собой лишь часть одноименной полиметаллической провинции с основными, наиболее значимыми, объектами в пределах Республики Казахстан (Колба-Нарымская металлогеническая область). Тем не менее в российской части Рудно-Алтайской провинции находится множество месторождений и проявлений полиметаллической колчеданной формации, включающих медную составляющую. Как и Уральская провинция, Рудный Алтай представляет собой орогенную структуру островодужного магматизма, но базальтоидного на Урале и риолитового на Алтае, что выразилось в различии металлогенической специализации – медь-цинковой на Урале и медь-полиметаллической – на Алтае [20].
Месторождения полиметаллов в Змеиногорском рудном районе разрабатывались с бронзовой эпохи, промышленная их разработка была начата на Змеиногорском месторождении еще в XVIII в. К настоящему времени Змеиногорское месторождение выработано, в разработке находятся Карабалихинское колчеданно-полиметаллическое месторождение {№ 27} с запасами Cu 316 тыс. т при среднем содержании 1,5 % Cu, добыча в 2021 г. – 6,3 тыс. т. Разрабатываются также полиметаллические месторождения с попутной медной минерализацией – Зареченское (запасы Cu 3,1 тыс. т, 0,17 % Cu) и Степное {№ 28} (запасы Cu 25 тыс. т, 1,18 % Cu). Подготавливается к эксплуатации Таловское медно-полиметаллическое месторождение {№ 56}, поисковые работы в пределах Уральской провинции осуществляются на Новоникольской (ресурсы 91 тыс. т) {№ 85} и Холодной (ресурсы 82 тыс. т) {№ 86} перспективных площадях, возможно также расширение поисковых территорий на территории Республики Алтай. Всего по Рудно-Алтайской провинции учтено 0,8 млн т балансовых запасов меди (0,78 % от российских запасов), а годовая добыча в 2021 г. составила 6,9 тыс. т (0,6 % от российской добычи), см. рис. 5, 6.
Салаирская провинция является одноименной минерагенической зоной орогенной структуры островодужного базальт-андезит-риолитового магматизма Салаирской эпохи складчатости, насыщенной многочисленными колчедан-полиметаллическими месторождениями [89]. Это старый горнорудный район, разрабатывавшийся с начала XIX в., но к настоящему времени добычные работы на нем остановлены. Законсервировано выработанное Каменушинское медно-полиметаллическое месторождение, но на территории провинции известно множество проявлений и месторождений медноколчеданно-полиметаллической формации (Ускандинское, Причумышская группа), в т.ч. и перекрытые отложениями чехла Западно-Сибирской плиты. Учтенные запасы меди по Рудно-Алтайской провинции составляют 0,8 млн т (0,78 % от российских запасов)14, см. рис. 5, 6.
Шорско-Хакасская провинция находится в южной части орогенической постройки Кузнецкого Алатау на площади Мрасско-Батеневской антиклинорной структурно-формационной зоны с повышенной мощностью рифей-кембрий-ордовикских отложений, насыщенных вулканическими породами базальто-андезито-трахито-липаритовой группы, и сформированной в завершающемся (?) раннепалеозойским диоритовым и плагиогранитным магматизмом салаирского или раннекаледонского цикла тектогенеза [90]. Здесь известны месторождения и проявления медно-скарновой, медно-порфировой формации, а также формаций самородной меди и медистых песчаников. Медно-молибден-скарновые месторождения приурочены к раннепалеозойским гранитоидам, наиболее крупные из которых – Киялых-Узень, Глафиринское [91] и Юлия [92] {№ 11} – к настоящему времени отработаны. К медно-молибден-порфировой формации относится Мало-Лабышское месторождение {№ 91} (ресурсы Cu 264 тыс. т, 0,12 % Cu) [93]. В Горной Шории находится крупнейшее в России Тайметское месторождение формации самородной меди {№ 90} в виде самородной меди с ресурсами Cu 1,57 млн т при среднем содержании 0,76 % Cu [94]. В Хакассии известны также проявления формации медистых песчаников – Базинское и Хараджульское. Учтенные запасы меди по Шорско-Хакасской провинции составляют 0,2 млн т15.
Центрально-Арктическая провинция находится на слабоизученных территориях полуострова Таймыр и островов Северной Земли и выделена по факту нахождения при геолого-съемочных работах проявлений и месторождений медно-порфировой формации с выделением Центрально-Арктического золотосодержащего позднепалеозойско-раннемезозойского медно-молибден-порфирового пояса [95]. Здесь зафиксированы десятки проявлений медно-молибденовой минерализации, из которых наиболее перспективны Убойное {№ 92}, Верхнетарейское {№ 93} и Порфировое {№ 94}, прогнозные ресурсы провинции оцениваются в 2,5 млн т Cu [95].
Норильско-Хараелахская провинция находится на крайнем северо-западе дорифейской Сибирской платформы на ее сопряжении с перикратонным Енисей-Хатангским прогибом [96]. Здесь находятся уникальные по запасам и качеству месторождения медно-никелевой формации, а также месторождения медно-порфировой формации и формации самородной меди. На территории Норильско-Хараелахской провинции сосредоточено 30,9 % российских запасов меди (31,7 млн т) и осуществляется 34,8 % российской добычи меди (402 тыс. т), см. рис. 5, 6. Имеется тенденция уменьшения доли добычи меди в Норильско-Хараелахской провинции в балансе России за счет роста объемов добычи в Уральской и Восточно-Забайкальской провинций, см. рис. 7.
Уникальная Норильская группа месторождений медно-никелевой формации является результатом мезозойской трапповой активизации перикратонного чехла Сибирской платформы [13]. Здесь разрабатываются Октябрьское {№ 30} (запасы 18,34 млн т 100 % Cu, среднее содержание 1,61 % Cu, добыча в 2021 г. 273 тыс. т Cu), Талнахское {№ 31} (запасы Cu 9,90 млн т, 1,09 % Cu, добыча в 2021 г. 121 тыс. т Cu) и Норильск-1 {№ 32} (запасы Cu 2,57 млн т, 0,47 % Cu, добыча в 2021 г. 9 тыс. т Cu) месторождения, подготавливаются к эксплуатации Масловское {№ 57} (запасы Cu 1,10 млн т, 0,53 % Cu) [97] и Черногорское {№ 58} (запасы Cu 400 тыс. т, 0,29 % Cu) [98], ведутся геологоразведочные работы на Моронговской {№ 96} и Самоедовской {№ 99} перспективных площадях16. В Хараелахской мульде возможно также обнаружение новых медно-никелевых месторождений, не имеющих выхода на дневную поверхность [99, 100].
На западном фланге Норильско-Хараелахской провинции в 1960-е годы выявлено Болгохтохское месторождение {№ 97} медно-порфировой формации (ресурсы Cu 462 тыс. т, 0,27 % Cu), [101].
В 1970-е годы в пределах Северо-Хараелахской рудной зоны были обнаружены проявления формации самородной меди, здесь производились поисковые работы на Арылахском месторождении самородной меди {№ 98} (ресурсы Cu 600 тыс. т, 0,41 % Cu) [102].
Игарская провинция выделена по факту нахождения образований формации медистых песчаников в отложениях гравийской свиты венда и сухарихинской свиты венда – нижнего кембрия в структуре горста Игарского выступа байкалид в северо-западной части Сибирской платформы [103]. В 1970-е годы в ее пределах были обнаружены и предварительно оценены Гравийское {№ 100} (ресурсы Cu 359 тыс. т, среднее содержание 2,42 % Cu) и Сухарихинское {№ 101} (ресурсы Cu 120 тыс. т, 1,08 % Cu) месторождения медистых песчаников [104].
Саянская провинция находится в юго-западной части Сибирской платформы, где на западной периферии Канской глыбы в раннепротерозойских метаморфитах караганской серии залегают серпентинизированные ультрабазиты габбро-перидотит-дунитовой магматической формации, несущие вкрапленную платиноидно-медно-никелевую минерализацию [13]. Здесь подготавливаются к эксплуатации Кингашское {№ 59} (запасы Cu 1,1 млн т, среднее содержание 0,17 % Cu) [105] и Верхнекингашское {№ 60} (запасы Cu 632 тыс. т 100 %, 0,24 % Cu) [106] месторождения медно-никелевой формации. Возможно обнаружение и других медно-никелевых месторождений на смежных с Кингашским массивом перспективных площадях – Кахтарминской {№ 102}, Берёзовской, Ёрминской и Агульской [107]. Учтенные запасы меди по Саянской провинции составляют 1,7 млн т (1,66 % от российских запасов)17, см. рис. 5, 6.
Восточно-Тувинская провинция охватывает область развития ранних каледонид (салаирид) в сопряжении их с байкалидами Тувино-Монгольского массива ранней консолидации и Восточно-Саянского жесткого блока, в пределах которой развиты металлоносные вулкано-плутонические комплексы кембрий-девонского возраста с множеством медных проявлений в пределах Аксугско-Кандатской, Хамсаринской, Ожинско-Дерзигской, Балыктыгхем-Билинской, Восточно-Таннуольской, Центрально-Саянской, Хемчикской и Монгун-Тайгинской металлогенических зон [108]. Подготавливается к эксплуатации Ак-Сугское месторождение {№ 61} медно-порфировой формации (запасы Cu 3,63 млн т, среднее содержание 0,67 % Cu) [109], из других медно-порфировых объектов следует отметить также Кызык-Чадрское месторождение {№ 103} (ресурсы Cu 2,35 млн т, 0,29 % Cu) [110]. Введено в эксплуатацию Кызыл-Таштыгское месторождение колчеданно-полиметаллической формации с попутной минерализацией меди {№ 33} (запасы Cu 37 тыс. т, 0,65 % Cu) [111]. Учтенные запасы меди по Восточно-Тувинской провинции составляют 3,8 млн т (3,7 % от российских запасов)18, см. рис. 5, 6.
Северо-Байкальская провинция находится в юго-восточной части складчатого обрамления Сибирской платформы, где в пределах рифейской Байкало-Муйской островной дуги сформировались Йоко-Довыренский, Авкитский, Чайский, Гасан-Дякитский и Нюрундуканский дунит-троктолит-габбровые рифтогенные интрузивы с проявлениями платино-медно-никелевого оруденения [112]. По проявлениям и месторождениям МПГ-медно-никелевой формации этой провинции с 1980-х годов производились авторские оценки их значимости. Наиболее изучены Йоко-Довыренское {№ 104} (ресурсы Cu 51 тыс. т) [112, 113] и Чайское {№ 105} (ресурсы Cu 260 тыс. т при среднем содержании 0,18 % Cu) [112, 114] месторождения.
Кодаро-Удоканская провинция пространственно приурочена к одноименному краевому прогибу на юге Сибирской платформы, сложенному раннепротерозойскими карбонатно-терригенными отложениями удоканской серии, включая формацию медистых песчаников [115]. Здесь находится крупнейшее в России Удоканское месторождение {№ 34} медистых песчаников [115, 116], запущенное в эксплуатацию в 2023 г., с запасами 20,09 млн т Cu, со средним содержанием 1,44 % Cu, добыча опытной эксплуатации в 2021 г. – 6 тыс. т Cu. В пределах Удоканского бассейна кроме Удоканского месторождения известны и другие перспективные площади развития медистых песчаников – Бурпалинское {№ 108} (ресурсы Cu 739 тыс. т, 1,17 % Cu) и Правоингамакитское {№ 110} (ресурсы Cu 608 тыс. т, 0,88 % Cu) [117], Сакинское {№ 109} (ресурсы Cu 404 тыс. т, 0,98 % Cu) [118], Ункурское {№ 106} (ресурсы Cu 320 тыс. т, 0,57 % Cu) [119], Красное {№ 107} (ресурсы Cu 933 тыс. т, 1,81 % Cu) [120] и другие. На северо-восточном фланге Кодаро-Удоканской провинции находится Чинейский массив габбро-норитов позднепротерозойского возраста, прорывающий раннепротерозойские карбонатно-терригенные отложения удоканской серии, и включающий в средней расслоенной своей части оруденение медно-скарновой формации (благороднометалльно-медно-сульфидное) разведываемого участка Рудный {№ 67} Чинейского месторождения (запасы Cu 775 тыс. т, 0,52 % Cu) [121]. Ресурсный потенциал этой формации может быть увеличен за счет медных рудопроявлений смежных Луктурского и Майлавского массивов Чинейского комплекса [118].
Всего по Кодаро-Удоканской провинции учтено 20,87 млн т балансовых запасов меди (20,3 % от российских запасов), а годовая добыча (опытная эксплуатация) в 2021 г. составила 6,0 тыс. т (0,52 % от российской добычи), см. рис. 5, 6.
Восточно-Забайкальская провинция насыщена мультиметалльными месторождениями и проявлениями Mo, W, Sn, Au, Cu, Bi, Pb, Zn, As, Sb, Hg, U, редких и редкоземельных элементов, других полезных ископаемых в пределах стагнированного океанского слэба Далайнор-Газимуро-Олекминской минерагенической зоны, сформированных в период от аалена (J2) до сеномана (К2) [122]. Медные месторождения представлены здесь медно-железорудно-скарновой и медно-порфировой формациями. В разработке находится Быстринское месторождение {№ 35} медно-железо-скарновой формации (запасы Cu 2,04 млн т, среднее содержание 0,74 % Cu, добыча в 2021 г. – 79 тыс. т Cu) [123]. Подготавливается к эксплуатации Култуминское месторождение {№ 62} этой же формации (запасы Cu 587 тыс т, 0,91 % Cu) [124]. На периферии этого месторождения ведутся геологоразведочные работы на участках Очуногдинский, Преображенский и Инженерный (ресурсы 487 тыс. т Cu). Разведываемое Лугоканское месторождение {№ 68} представляет собой сложный объект, где в верхней части классическое медно-скарновое оруденение [125] на глубине сменяется типичными образованиями медно-порфировой формации [126] (ресурсы Cu 604 тыс. т, 0,40 % Cu) [127]. Для расширения ресурсной базы Быстринского ГОКа ведутся геологоразведочные работы на Западно-Мостовской {№ 111} и Боровой {№ 112} перспективных площадях нахождения медно-порфировых образований. Имеются также предпосылки выявления месторождений медно-порфирового типа в пределах Уронайского рудного узла, в Газимуро-Заводском, Могочинском и Верхне-Олекминском рудных районах Восточно-Забайкальской провинции. Учтенные запасы меди по Восточно-Забайкальской провинции составляют 2,7 млн т (2,63 % от российских запасов), а годовая добыча в 2021 г. составила 81,1 тыс. т (7,0 % от российской добычи)19, см. рис. 5, 6.
Умлекано-Огоджинская провинция охватывает площадь одноименного вулкано-плутонического пояса на территории Амурской области [128], включающего базальт-андезитовую вулканическую и габбро-диорит-плагиогранитную плутоническую формации позднемезозойской активизации с медно-порфировой минерализацией [129]. В центральной части провинции находится резервное Иканское месторождение {№ 43} медно-порфировой формации (запасы Cu 459 тыс. т, среднее содержание 0,21 % Cu), а также близрасположенные Боргуликанское и Восточное Двойное проявления [130]. Учтенные запасы меди по всей Умлекано-Огоджинской провинции составляют 0,8 млн т20.
Приморская провинция, как и Забайкальская, насыщенная мультиметалльными месторождениями и проявлениями Sn, W, Au, Mo, Cu, Pb, Zn, редких элементов и других полезных ископаемых, сформированных в широкий временной диапазон от палеозоя до мезо-кайнозоя, представляет собой сегмент Тихоокеанского рудного пояса [131]. Медные месторождения представлены здесь медно-порфировой формацией и месторождениями с попутной медной минерализацией. В разработке находятся месторождения с попутной медной минерализацией Правоурмийское (запасы Cu 37,2 тыс. т), Фестивальное (запасы Cu 124,5 тыс. т), Соболиное (запасы Cu 53,6 тыс. т) и Перевальное (запасы Cu 25,1 тыс. т) оловорудные месторождения {№ 36} (добыча в 2021 г. – 916 т) [132] и вольфрамовое месторождение Восток-2 {№ 37} (балансовые запасы Cu 7,3 тыс. т) [133]. Подготавливается к эксплуатации Малмыжское месторождение {№ 64} медно-молибден-порфировой формации (запасы Cu 8,31 млн т, среднее содержание 0,35 % Cu) [134], находящееся в северной части Журавлевско-Амурского террейна раннемелового Сихотэ-Алинского орогенического пояса. Имеются предпосылки выявления месторождений медно-порфирового типа в пределах, смежных с Малмыжским месторождением Центрально-Анаджакской {№ 116} (ресурсы Cu 800 тыс. т) и Понийской {№ 117} (ресурсы Cu 714 тыс. т) перспективных площадей [135], а также Лазурного {№ 114} (ресурсы Cu 187 тыс. т, 0,48 % Cu) [136, 137] и Малахитового {№ 115} (ресурсы Cu 1,94 млн т, 0,30 % Cu) [138] месторождений (ресурсы Cu 1,94 млн т) в южной части Журавлевско-Амурского террейна [139]. Учтенные запасы меди по Приморской провинции составляют 8,51 млн т (8,29 % от российских запасов), а добыча в 2021 г. 4,1 тыс. т (0,35 % от российской)21, см. рис. 5, 6.
Джугджурская провинция находится на восточном фланге Джугджуро-Станового подвижного пояса протерозойской и мезозойской активизаций [140]. В пределах этого пояса находятся месторождения медно-никелевой, медно-скарновой формации и малосульфидной формации с попутной медной минерализацией.
Наиболее подготовлено к эксплуатации месторождение Кун-Манье {№ 63} МПГ–медно-никелевой формации (запасы Cu 31,5 тыс. т, 0,21 % Cu) [141]. На восточном окончании провинции Няндоминская перспективная площадь {№ 118} в раннеархейских габбро-анартозитах Лантарской части Джугджурского анортозитового массива [142], на площадях которой зафиксированы МПГ–Cu–Ni проявления Батомгское и Няндоми, а также МПГ–Cu проявления Скелетное и Мукдакиндя. По Няндоминской площади подсчитаны ресурсы 235 тыс. т. Cu.
В западной части Джугджурской провинции находится Кондерский магматический массив, он представляет собой сложную разновозрастную структуру с протерозойским дунитовым ядром по периферии, обновленным мезозойской кольцевой интрузией сиенитов. В самих дунитах известна шлировая МПГ-хромитовая минерализация, а также поля позднемеловых щелочных пегматитов, к которым пространственно приурочена сульфидная медная минерализация, обогащенная платиноидами (малосульфидная формация с попутной медной минерализацией) [143], которые стали предметом геологоразведочных работ на месторождении Кондер-Рудный {№ 69} с оцененными запасами меди 61 тыс. т.
На востоке Джугджурской провинции расположено месторождение медно-свинцово-цинковых руд Малокомуйское {№ 119} медно-скарновой формации в структуре позднемеловых гранодиоритов Джугджурского комплекса [144]. На этом месторождении оценены запасы меди в 33 тыс. т и прогнозные ресурсы 100 тыс. т.
Всего по Джугджурской провинции учтенные запасы меди составляют 0,12 млн т (0,12 % от российских)22, см. рис. 5, 6.
Билякчанско-Приколымская провинция представляет собой протерозойский металлогенический пояс меденосных осадочных пород и самородной меди в базальтах, который простирается от Билякчанской шовной зоны в Хабаровском крае до Ориекской рудной зоны Приколымского террейна в Магаданской области. Здесь известны проявления и месторождения формации медистых песчаников протерозойского возраста – Билякчанское [145], Северный Уй [146] и Боронг [147] {№ 120}, Ороекское [148] и Лучистое [149] {№ 123}, а также раннепалеозойского возраста – Веснянка {№ 123} [147] возраста. Проявления и месторождения формации самородной меди среднепротерозойского возраста обнаружены в Сетте-Дабанской рудной зоне – Джалкан, Росомаха и Хурат [150] {№ 121} и Урультинской рудной зоне – проявление Батько {№ 122} [147].
Охотско-Чукотская провинция повторяет геометрию позднеюрского-раннемелового Охотско-Чукотского вулканического пояса, сегмента глобального Тихоокеанского рудного пояса [131]. Здесь находятся месторождения и проявления медно-порфировой и медно-скарновой формаций. Из месторождений медно-порфировой формации особо следует отметить группу рудных объектов в пределах Баимской рудной зоны [151] – наиболее крупное разведываемое месторождение Песчанка {№ 70} (запасы Cu 6,4 млн т, среднее содержание 0,53 % Cu) [151, 152] и его месторождение-сателлит Находка {№ 131} (ресурсы Cu 3,1 млн т, 0,34 % Cu) [151, 153] позднеюрского-раннемелового возраста. К северу от них ведутся работы на Кавральянской [154] {№ 132} и Танюрерской {№ 133} [155] перспективных площадях на медно-порфировое оруденение. В южной части Охотского вулканического пояса в пределах Хабаровского края находится позднемеловое медно-(Au)-порфировое месторождение Челасинское {№ 125} (ресурсы Cu 2,0 млн т) [156] и перспективная Дарпирчанская площадь {№ 126} (ресурсы Cu 324 тыс. т). В пределах Магаданской области ведутся поиски и оценка меднопорфировых месторождений на перспективных площадях Шхиперская {№ 127} (раннемеловые месторождения и проявления Накхатанджинское, Лора, Осеннее, Этанджа, Муромец, ресурсы 1,0 млн т) [157] и Мечивеемская {№ 130} (позднемеловые месторождения Двуустная и другие, ресурсы 1,0 млн т) [158]. Здесь же находятся раннемеловые молибден-медное месторождение Бебекан {№ 128} [158] в Лево-Омолонской рудной зоне. В этой же рудной зоне находится и раннемеловое месторождение медно-скарновой формации Медь-Гора {№ 129} [159]. Всего по Охотско-Чукотской провинции учтено 6,4 млн т запасов меди (6,23 % от российских запасов), что явно заниженный показатель, см. рис. 5, 6.
Корякская провинция находится на севере Корякско-Камчатского мезозойско-кайнозойского вулканического пояса [160]. Здесь в альпинотипных мафит-ультрамафитовых комплексах известны месторождения и проявления малосульфидной платиноидной формации с попутной медной минерализацией. Поисковые и оценочные работы ведутся также на Майницкой {№ 134} [161] и Валагинско-Карагинской {№ 135} [162] перспективных площадях малосульфидной формации МПГ с попутной медной минерализацией. В южной части провинции известно также позднемеловое малосульфидное МПГ-хромитовое месторождение Снежное с попутной медной минерализацией {№ 136} [163].
Камчатская провинция располагается в южной части Корякско-Камчатского мезозойско-кайнозойского вулканического пояса, где в пределах позднемеловой-палеоценовой Квинум-Кувалорогской рудной зоны были выявлены месторождения медно-никелевой формации, связанные с роговообманковыми перидотитами и габброидами, в т.ч. разрабатываемое в настоящее время существенно никелевое месторождение Шануч с попутной медной минерализацией {№ 38} (запасы 7,4 тыс. т 100 % Cu, среднее содержание 0,3 % Cu) [139, 164], медно-никелевые руды которых экспортируются. В пределах этой рудной зоны известны также месторождения медно-никелевой формации Квинум [165] и Кувалорог [166] {№ 137}. В южной части провинции известно также месторождение медно-порфировой формации Кирганик {№ 138} позднемелового возраста [167].
Всего по Камчатской провинции учтено 0,01 млн т запасов меди, а годовая добыча в 2021 г. составила 0,3 тыс. т, см. рис. 5, 6.
Медные месторождения вне известных провинций имеют место в условиях слабой изученности территорий и неопределенности идентификации некоторых месторождений по формационной принадлежности. Далее приводятся некоторые месторождения меди вне известных провинций.
Попутная медная минерализация развита на разрабатываемом Синюхинском золото-скарновом месторождении {№ 29} с учтенными запасами меди 28 тыс. т [168, 169] и годовой реализацией до 1 тыс. т извлеченного медного концентрата (рудник Веселый).
К формации железооксидно-золото-медных месторождений (IOCG-тип Олимпик Дэм) относится Уландрыкское железо-медно-редкоземельное месторождение {№ 87} на юге Горного Алтая с ресурсами Cu 1,2 млн т при среднем содержании 0,70 % Cu [170]. Оно представляет собой медно-золоторудную и редкоземельную минерализации, наложенные на железорудные скарны в силур-девонских вулканических отложениях риолитов и их туфов на контакте с девонскими субвулканическими лейкогранитами Уландрыкского массива. Возможно, одиночное Уландрыкское месторождение является лишь фрагментом меднорудной провинции в смежной с Горным Алтаем Синьцзянского Алтая в Китае, где известны железо-медное месторождение Чача и медное месторождение Минкэ [171].
Аналогами медно-цирконий-фосфатного карбонатитового месторождения Палабора [42] являются находки медно-сульфидной минерализации проявлений Дюмталейского карбонатитового массива [172], а также в карбонатитовых массивах Надежда, Павловский и Кошка [173] {№ 95} на Восточном Таймыре. Значимая для промышленной отработки сульфидная минерализация достаточно редкое явление в карбонатитовых комплексах и, соответственно, требует оценки в названных проявлениях формации медной минерализации в карбонатитах.
Другими необычными проявлениями медно-сульфидной минерализации являются ее находки в калиевых щелочных интрузиях Центрально-Алданского района позднемезозойской активизации Алданского щита [174]. При геологоразведочных работах на золото в них фиксировались ареалы медной и молибденовой сульфидной минерализации, причем ареалы распространения Au, Cu и Mo минерализации в пространстве имеют независимое распределение, и появилось понятие молибден-медно-золото-порфировой формации калиевого (а не натриевого) профиля магматических пород [175]. Выделяются Рябиновое медно-золото-порфировое месторождение {№ 113} на одноименном магматическом массиве [175, 176], Ыллымахское месторождение {№ 113} – также на одноименном массиве [177], фиксируется медная минерализация в массивах центрального типа Якокутском и Томмотском. Обнаружена также медная минерализация и в ранее считавшимися безрудными лакколитах сиенит-порфиров – месторождение Морозкинское в лакколите Горы Рудной [178] {№ 113} и в сиенит-порфирах лакколита Мрачного.
Агылкинское медно-вольфрамовое скарновое месторождение {№ 124} необычно тем, что оно является единственным крупным проявлением меди и вольфрама в пределах Верхоянской золото-доминирующей металлогенической провинции [179]. Месторождение представляет собой залежь в контактовом ореоле невскрытого плутона позднемезозойских гранитоидов. На нем учтены запасы меди 206 тыс. т при среднем содержании 2,7 % Cu и прогнозные ресурсы 84 тыс. т Cu.
Из других медных проявлений вне известных провинций следует отметить месторождение Береговое {№ 139} на северо-западной оконечности мыса Сулковского острова Медный в архипелаге Командорских островов. Обнаружено оно было русским промышленником Е.С. Басовым, который собрал на нем значительные объемы самородков меди. Геологические исследования 1903 г. (И.А. Морозевич, Л. Конюшевский) и 1958 г. (Ю.В. Жегалов, В.П. Вдовенко) выявили наличие мелкой вкрапленности самородной меди в дайках кайнозойских авгитовых андезитов (формации самородной меди), но остаточная бенчевая россыпь самородной меди была уже выработана, и И.А. Морозевич, и Ю.В. Жегалов оценивают это месторождение как непромышленное [180]. Провинцию распространения минерализации самородной меди на острове Медном выделить невозможно из-за ограниченности надводных территорий Командорских островов.
10 Государственные доклады о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2002-2021 гг. – МПР РФ, 2022. 626 с. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/
11 Там же.
13 Там же.
14 Там же.
15 Там же.
16 Там же.
17 Там же.
18 Там же.
19 Там же.
20 Там же.
21 Там же.
22 Там же.
Запасы и прогнозные ресурсы меди по Российской Федерации
Учтенные запасы и ресурсы. В Российской Федерации по состоянию на 01.01.2022 г. учтено 102,7 млн т балансовых запасов категорий A + B + C1 + C2 и 79,9 млн т прогнозных ресурсов категорий P1 + P2 + P323. Прогнозные ресурсы также рассматриваются в значениях, приведенных к условным запасам. По Методике МПР (Приказ МПР 18 апреля 2022 г. N 68250) условные запасы путем пересчета на C2 = 0,5P1+0,25P2+0,125P3, составляют 16,7 млн т. По другой методике, используемой для ресурсов меди Я.В. Алексеевым, с пересчетом на C2 = 1,0P1+0,6P2 они составляют 16,1 млн т [9], что сопоставимо с результатами пересчета по методике МПР. Результаты расчетов по последней методике использованы в оценке ресурсов меднорудных формаций.
Обеспеченность добычи запасами. Имеющихся балансовых запасов меди Российской Федерации при имеющемся уровне национальной добычи меди с учетом ее роста за счет ближайших вводов проектных объектов хватит минимум на 47 лет эксплуатации известных месторождений. Причем многие месторождения – Октябрьское, Талнахское, Норильск-I и Гайское – имеют обеспечение своего уровня добычи меди на срок свыше 100 лет. В то же время некоторые месторождения имеют ограниченные остаточные запасы и будут выводиться из эксплуатации (Осеннее, Джусинское, Весенне-Аралчинское, Талганское и другие).
Меднорудные формации. По отношению долей добычи/запасов (от суммарных российских) меди лишь медно-никелевая (1,06) и медно-порфировая (1,18) формации соизмеримы по уровням добычи и запасов, см. рис. 3. Проблемы обеспеченности запасами и вероятного срабатывания запасов для месторождений данных формаций неактуальна. Для месторождений медно-колчеданной (1,96) и медно-скарновой (2,44) формаций имеет место высокий показатель доли добычи, что свидетельствует о срабатывании запасов руд этих типов. Для формации медистых песчаников отношение долей добычи/запасов составляет всего 0,03, что является отражением лишь начала эксплуатации месторождений этого типа (Удоканское).
Меднорудные провинции. По отношению долей добычи/запасов (от суммарных российских) меди по эксплуатационным регионам лишь показатели Норильско-Хараелахской (1,13), Кольской (0,74) и Рудно-Алтайской (0,77) провинций соизмеримы по уровням добычи и запасов, см. рис. 3. В старой горнопромышленной Уральской провинции этот показатель составляет 2,85, что свидетельствует о серьезном срабатывании запасов руд на ее территории. Аналогичная ситуация имеет место для новой Восточно-Забайкальской провинции (2,67). В то же время по старой горнопромышленной Северо-Кавказской провинции отношение долей добычи/запасов составляет 0,21, свидетельствуя о наличии невостребованных запасов меди (месторождение Кизил-Дере и др.). Для новых провинций имеют место крайне малые показатели отношения долей добычи/запасов – Приморская (0,04), Охотско-Чукотская (0,01) и Восточно-Тувинская (0,12), где ведется подготовка к разработке новых медных месторождений.
Проекты освоения новых медных месторождений. В 2023 г. запущено в эксплуатацию Удоканское месторождение медистых песчаников (Кодаро-Удоканская провинция), при выходе на полную мощность I очереди ожидается уровень годовой добычи меди 136 тыс. т, по II очереди – до 542 тыс. т. В Уральской провинции в завершающей стадии подготовки находятся медно-колчеданные месторождения: Подольское – с ожидаемым уровнем добычи меди 85 тыс. т/год и Ново-Учалинское – с уровнем добычи I очереди – 16 тыс. т/год и II очереди – 28 тыс. т/год. В Восточно-Тувинской провинции подготавливается Ак-Сугское медно-порфировое месторождение с выходом на уровень добычи в 151 тыс. т/год. Заканчивается подготовка к эксплуатации Малмыжского медно-порфирового месторождения в Приморской провинции и ожидается уровень годовой добычи меди до 300 тыс. т. Из разведываемых месторождений наибольшая подготовка имеет место для медно-порфирового месторождения Песчанка в Охотско-Чукотской провинции, эксплуатация которого может достичь уровня добычи до 350 тыс. т/год.
Реализация названных проектов может увеличить уровень годовой добычи России на 635–1053 тыс. т (на 55–91 % от уровня добычи 2021 г.). При вводе в эксплуатацию и месторождения Песчанка добыча российской меди может возрасти на 118 % по отношению к уровню добычи 2021 г.
Состояние базы прогнозных ресурсов меди. Показатель перспективы развития минерально-сырьевой базы наиболее информативен по отношению объемов ресурсов (приведенных к C2) и запасов. Для медно-никелевой формации он составляет 0,46, что свидетельствует о высокой степени разведанности известных месторождений Норильско-Хараелахской и Кольской провинций преимущественно сливных руд и относительно меньшими ожиданиями прироста запасов за счет прогнозных ресурсов вкрапленных медно-никелевых руд. Тем не менее возможны открытия новых месторождений богатых сливных руд на глубине в пределах Хараелахского и Тангаралахского рудоносных интрузивов [99, 100]. Для медно-колчеданной формации показатель отношение объемов ресурсов и запасов весьма высок – 2,5, и это результат значительной разведанности Уральской провинции на данный тип оруденения как сливных, так и вкрапленных руд. Прирост запасов медно-колчеданных руд возможен за счет оценки глубоких горизонтов и периферии известных месторождений, а также поиска новых месторождений на территории Приполярного и Полярного Урала [73, 81]. Еще более высокий показатель отношения объемов ресурсов/запасов имеет место для медно-полиметаллической формации – 9,2. Месторождений и проявлений медно-полиметаллических руд достаточно много, но большая часть из них средние и мелкие по размеру и поэтому ранее не представляла интереса для разведочных работ. Тем не менее при увеличении востребованности меди месторождения этого типа становятся привлекательными, особенно в старых горнопромысловых Рудно-Алтайской, Салаирской и Северо-Кавказской провинциях [19, 89], а также при исследовании новых Восточно-Тувинской и Охотско-Чукотской провинций. Для медно-порфировой формации отношение объемов ресурсов/запасов составляет 1,35 и на фоне бурного вовлечения месторождений этого типа в эксплуатацию (Томинское, Михеевское, Малмыжское, Песчанка) увеличились масштабы разведочных и поисковых работ на данный тип оруденения в Восточно-Тувинской, Приморской и Охотско-Чукотской провинциях, где имеются все предпосылки к обнаружению новых, в том числе крупных медно-порфировых месторождений [151, 154, 155, 156, 157]. В отношении других меднорудных формаций имеет место низкий уровень объемов прогнозных ресурсов по отношению к балансовым запасам. Но если для медно-скарновой формации это следствие учета большинства объектов данного типа за медно-полиметаллической формацией, то для формации медистых песчаников низкий уровень прогнозных ресурсов является следствием малого интереса к технологически сложным рудам этого типа. Геологоразведочные работы велись только на уникальном по масштабам минерализации Удоканском месторождении медистых песчаников, причем в сопровождении низкого уровня оценки даже близлежащих месторождений и проявлений Кодаро-Удоканской (Ункурское, Красное, Бурпалинское, Сакинское, Правоингамакитское), а также в Игарской (Гравийское, Сухарихинское) провинциях. Кроме разведки этих месторождений, возможны также поиски и оценка месторождений в новых Билякчанско-Приколымской [148] и Шорско-Хакасской провинциях. В условиях развития новых технологий подземного выщелачивания меди становится возможным вовлечение в эксплуатацию известных и ранее разрабатываемых месторождений медистых песчаников в Приуральской [68], Игарской [102] и Донецкой [51] провинциях. В учтенных балансовых запасах меди России отсутствуют объекты месторождений формации самородной меди в базальтоидах. Тем не менее они имеются в пределах Шорско-Хакасской, Норильско-Хараелахской и Билякчанско-Приколымской меднорудных провинций. К сожалению, наиболее крупные и наиболее изученные их месторождения (Тайметское [94], Арылахское [102]) находятся в пределах природоохранных территорий и маловероятны для промышленной эксплуатации.
23 Там же.
Выводы
- Составлена сводная карта-схема России, включающая 25 меднорудных провинций и 150 наиболее значимых месторождений меди различных рудных формаций, перспективных объектов и площадей. Некоторые меднорудные провинции включают лишь один тип рудных формаций: медистых песчаников в Приуральской, Игарской и Донецкой провинциях; в других имеется преобладание месторождений одной главенствующей формации: медно-никелевой в Норильско-Хараелахской и Кольской, медистых песчаников в Кадаро-Удоканской, медно-полиметаллической в Рудно-Алтайской и Салаирской; в Уральской же провинции превалируют месторождения двух формаций (медно-колчеданной и медно-порфировой). Во многих меднорудных провинциях представлены месторождения разных формаций и возраста, что свидетельствует об общности их геохимической специализации в пределах территории отдельных провинций, зачастую вне зависимости от геологических особенностей рудоносных комплексов.
- В отличие от мировой раскладки меднорудных формаций в долях запасов и добычи, где лидирует медно-порфировая формация, в России на первом месте по запасам и добыче находится медно-никелевый технологический тип руд. Основная добыча сконцентрирована на сульфидных медно-никелевых (419–508 тыс. т/год, или 36–65 % от российской добычи) и медно-колчеданных (227–334 тыс. т/год, 23–40 %) месторождениях, а также начата добыча и увеличиваются ее объемы на медно-порфировых (с 2013 г. – до 323 тыс. т/год, до 25 %) и медно-скарновых (с 2018 г., до 94 тыс. т/год, до 8,3 %) месторождениях. В 2021 г. уровень добычи меди в Российской Федерации составил 1147 тыс. т. В 2023 г. введено в эксплуатацию сверхкрупное Удоканское месторождение медистых песчаников с максимальной добычей 175 тыс. т/год. Реализация новых подготавливаемых проектов разработки медных месторождений может увеличить уровень годовой добычи России на 635–1053 тыс. т (на 55–91 % от уровня добычи 2021 г.).
- В России по состоянию на 01.01.2022 г. учтено 102,7 млн т балансовых запасов и 79,9 млн т прогнозных ресурсов суммы категорий P1+P2+P3 (16,1 млн т в пересчете на условные запасы категории С2). Наибольшие объемы запасов меди приходятся на медно-никелевую (34,4 % от российских запасов), медно-порфировую (23,9 %) формации, формацию медистых песчаников (19,6 %) и медно-колчеданную формацию (14,5 %) и 7,6 % на все остальные рудные формации. По провинциям на Норильско-Хараелахскую приходится 30,9 % от российских запасов, на Кодаро-Удоканскую – 20,3 %, на Уральскую – 18,9 %. Отмечается увеличение показателей долей запасов меди для новых провинций: Приморской – 8,29 %, Охотско-Чукотской – 6,23 % и Восточно-Тувинской – 3,7 %. На остальные меднорудные провинции приходится 11,68 % российских запасов меди. В целом имеющихся запасов меди Российской Федерации хватит на 47 лет эксплуатации.
- По соизмеримости долей запасов и добычи меди по рудным формациям наиболее благоприятная ситуация обеспеченности имеется для медно-никелевой (1,06) и медно-порфировой (1,18). Для формации медистых песчаников отношение долей добычи/запасов еще более благоприятное, что является отражением лишь начала эксплуатации месторождений этого типа (Удоканское). Для месторождений медно-колчеданной (1,96) и медно-скарновой (2,44) формаций имеет место высокий показатель доли добычи, что свидетельствует о срабатывании запасов руд этих типов. По эксплуатационным регионам лишь для Норильско-Хараелахской (1,13), Кольской (0,74) и Рудно-Алтайской (0,77) провинций имеют место благоприятные уровни сравнения долей добычи и запасов. В старой горнопромышленной Уральской провинции (2,85) и новой Восточно-Забайкальской провинции (2,67) отмечается серьезное срабатывание запасов балансовых руд. В то же время по старой горнопромышленной Северо-Кавказской провинции отношение долей добычи/запасов составляет 0,21, свидетельствуя о наличии невостребованных запасов меди (месторождение Кизил-Дере и др.).
- Перспективы развития минерально-сырьевой базы меди различны для каждой рудной формации. Обеспеченность медно-никелевой формацией (отношение ресуры/запасы 0,46) свидетельствует о высокой степени разведанности известных месторождений Норильско-Хараелахской и Кольской провинций. Тем не менее возможны открытия новых месторождений богатых сливных руд на глубине в пределах Хараелахского и Тангаралахского рудоносных интрузивов. Для медно-колчеданной формации (2,5) прирост запасов возможен за счет оценки глубоких горизонтов и периферии известных месторождений Уральской провинции, а также поиска новых месторождений на территории Приполярного и Полярного Урала. Для медно-полиметаллической формации (9,2) известно множество месторождений, но большая часть из них – средние и мелкие по размеру и поэтому ранее не представляли интереса для разведочных работ. Тем не менее при увеличении востребованности меди месторождения этого типа становятся привлекательными, особенно в старых горно-промысловых Рудно-Алтайской, Салаирской и Северо-Кавказской провинциях, а также при исследовании новых Восточно-Тувинской и Охотско-Чукотской провинций. Для медно-порфировой формации (1,35) на фоне бурного вовлечения месторождений этого типа в эксплуатацию увеличились масштабы геологоразведочных работ на данный тип оруденения в Восточно-Тувинской, Приморской и Охотско-Чукотской провинциях, где имеются все предпосылки к обнаружению новых, в том числе крупных медно-порфировых месторождений. Для формации медистых песчаников низкий уровень прогнозных ресурсов является следствием малого интереса к технологически сложным рудам этого типа. Имеет место недостаточность изучения многих известных месторождений и проявлений Кодаро-Удоканской провинции (Ункурское, Красное, Бурпалинское, Сакинское, Правоингамакитское), а также в Игарской (Гравийское, Сухарихинское) провинции. Кроме разведки этих месторождений возможны также поиски и оценка месторождений в новых Билякчанско-Приколымской и Шорско-Хакасской провинциях. В условиях развития новых технологий подземного выщелачивания меди становятся возможными поиски, разведка и вовлечение в эксплуатацию небольших месторождений медистых песчаников в Приуральской и Донецкой провинциях. В учтенных балансовых запасах меди России отсутствуют объекты месторождений формации самородной меди в базальтоидах. Тем не менее они имеются в пределах Шорско-Хакасской, Норильско-Хараелахской и Билякчанско-Приколымской меднорудных провинций. К сожалению, наиболее крупные и наиболее изученные их месторождения (Тайметское и Арылахское) находятся в пределах природоохранных территорий и маловероятны для промышленной эксплуатации.
Список литературы
1. Кондратьев В. Б., Попов В. В., Кедрова Г. В. Глобальный рынок меди. Горная промышленность. 2019;(3):80–87. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2019-3-145-80-87; Горная промышленность. 2019;(4):100–104. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2019-4-100-101
2. The World Copper Factbook 2021. Lisbon: International Copper Study Group; 2022. Pp. 61–68. URL: https://dev.icsg.org/wp-content/uploads/2021/11/ICSG-Factbook-2021.pdf
3. Викентьев И. В. Критическое и стратегическое минеральное сырье в Российской Федерации. Геология рудных месторождений. 2023;65(5):463–475. https://doi.org/10.31857/S0016777023050106
4. Coulomb R., Dietz S., Godunova M., Nielsen Th. B. Critical minerals today and in 2030: an analysis of OECD countries. OECD Environment working papers. London, UK. 2015;91:1–51. https://doi.org/10.1787/5jrtknwm5hr5-en
5. Skirrow R. G., Huston D. L., Mernagh T. P. et al. Critical commodities for a hightech world: Australia’s potential to supply global demand. Canberra: Geoscience Australia; 2013. Pp. 1–118.
6. Бортников Н. С., Волков А. В., Галямов А. Л. и др. Минеральные ресурсы высокотехнологичных металлов в России: Состояние и перспективы развития. Геология рудных месторождений. 2016;58(2):97–119. https://doi.org/10.7868/S0016777016020027
7. The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future. Washington: The World Bank; 2017. Pp. 1–88. https://doi.org/10.1596/28312
8. Петров И. М. Экспортные позиции России на мировом рынке цветных металлов. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2020;(3):73–75.
9. Алексеев Я. В., Корчагина Д. А. Сырьевая база меди России: состояние и перспективы развития по 2040 г. Отечественная геология. 2023;(1):3–19. https://doi.org/10.47765/0869-7175-2023-10001
10. Distler V. V., Genkin A. D., Dyuzhikov O. A. Sulfide petrology and genesis of copper-nickel ore deposits. In: Geology and Metallogeny of Copper Deposits. Proceedings of the Copper Symposium 27th International Geological Congress. Moscow, 1984. (Special Publication of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits). 2024:111–123. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-70902-9.
11. Маракушев А. А., Панеях Н. А., Зотов И. А. Специфика образования медно-никелевых сульфидных месторождений в трапповых формациях (на примере Печенги и Норильска). Доклады Академии наук. 2002;382(5):668–673. (Trans. ver.: Marakushev A. A., Paneyakh N. A., Zotov I. A. Specific features of the formation of copper-nickel sulfide deposits in trap rocks: evidence from the Pechenga and Noril'sk regions. Doklady Earth Sciences. 2002;383(2):129–133.)
12. Naldrett A. J. Magmatic sulfide deposits: Geology, Geochemistry and Exploration. Berlin, Heidelberg: Springer, Verlag; 2004. 727 p.
13. Заскинд Е. С., Конкина О. М. Типизация сульфидных медно-никелевых и платинометалльных месторождений для целей прогноза и поисков. Отечественная геология. 2019;(2):3–15. https://doi.org/10.24411/0869-7175-2019-10010
14. Лихачев А. П. Платино-медно-никелевые и платиновые месторождения: зарождение, внедрение и становление рудоносных мафит-ультрамафитовых магм. Руды и металлы. 2012;(6):9–23.
15. Бородаевская М. Б., Горжевский Д. И., Кривцов А. И. и др. Колчеданные месторождения мира. М.: Недра; 1979. 284 c.
16. Robb L. J. Introduction to ore-forming processes. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publ.; 2005. 386 p.
17. Викентьев И. В. Условия формирования и метаморфизм колчеданных руд. М.: Научный мир; 2004. 344 c.
18. Маракушев А. А., Русинов В. Л., Панеях Н. А. и др. Звено генетической связи между сульфидными медно-никелевыми и медно-цинковыми колчеданными месторождениями. Доклады Академии наук. 2001;380(5):667–670. (Trans. ver.: Marakushev A. A., Rusinov V. L., Paneyakh N. A. et al. The intermediate member in the genetic chain between Cu-Ni sulfide and Cu-Zn massive sulfide deposits. Doklady Earth Sciences. 2001;381:932–934.)
19. Маракушев А. А., Панеях Н. А., Зотов И. А. Петрогенетические типы колчеданных и полиметаллических месторождений. Литосфера. 2011;(3):84–103.
20. Серавкин И. Б., Косарев А. М. Южный Урал и Рудный Алтай: сравнительный палеовулканический и металлогенический анализ. Геология рудных месторождений. 2019;61(2):3–22. https://doi.org/10.31857/S0016-77706123-22
21. Сотников В. И. Медно-молибден-порфировая рудная формация: природа, проблема объема и границ. Геология и геофизика. 2006;47(3):355–363.
22. Sun W., Zhang C.-C., Li H. et al. The formation of porphyry copper deposits. Acta Geochimica. 2017;36(1):9–15. https://doi.org/10.1007/s11631-016-0132-4
23. Звездов В. С. Обстановки формирования крупных и сверхкрупных медно-порфировых месторождений. Отечественная геология. 2019;(5):16–35.
24. Heinrich C. A., Halter W., Landtwing M. R., Pettke T. The formation of economic porphyry copper (-gold) deposits: constraints from microanalysis of fluid and melt inclusions. Geological Society Special Publication. 2005;248:247–263. https://doi.org/10.1144/gsl.sp.2005.248.01.13
25. Lee C.-T. A., Tang M. How to make porphyry copper deposits. Earth and Planetary Science Letters. 2020;529:115868. https://doi.org/10.1016/J.EPSL.2019.115868
26. Мигачёв И. Ф., Звездов В. С., Минина О. В. Формационные типы медно-порфировых месторождений и их рудно-магматические системы. Отечественная геология. 2022;(1):26–48.
27. Lur’ye A. M. Formation conditions of copper-sandstone and copper-shale deposits. In: Geology and Metallogeny of Copper Deposits. Proceedings of the Copper Symposium 27th International Geological Congress. Moscow, 1984. Springer Link; 1986. Pp. 477–491.
28. Лурье А. М. Генезис медистых песчаников и сланцев. М.: Наука; 1988. 180 p.
29. Boyle R. W., Brown A. C., Jefferson C. W. et al. Sediment-hosted stratiform copper deposits. Ottawa: Geological Association of Canada; 1989. 710 p.
30. Габлина И. Ф. Роль геохимических барьеров при формировании сульфидных руд в различных геологических обстановках. Отечественная геология. 2021;(2):63–73.
31. Синяков В. И. Генетические типы скарновых рудообразующих систем. Труды института геологии и геофизики. Новосибирск: Наука, СО АН СССР. 1990;774:1–71.
32. Meinert L. D., Hedenquist J. W., Satoh H., Matsuhisa Y. Formation of anhydrous and hydrous skarn in Cu-Au ore deposits by magmatic fluids. Economic Geology. 2003;98:147–156. https://doi.org/10.2113/GSECONGEO.98.1.147
33. Грабежев А. И., Шардакова Г. Ю. Рудоносные гранитоиды медно-скарновых месторождений Урала: петрогеохимия в связи с особенностями рудно-метасоматической зональности. Литосфера. 2006;(4):68–78.
34. Poltavets Y. A., Poltavets Z. I., Nechkin G. S. Volkovsky deposit of titanomagnetite and copper-titanomagnetite ores with accompanying noble-metal mineralization, the Central Urals, Russia. Geology of Ore Deposits. 2011:53(2):126–139. https://doi.org/10.1134/S1075701511020061
35. Bornhorst T. J., Barron R. J. Copper deposits of the western Upper Peninsula of Michigan. The Geological Society of America. Field Guide. 2011;24:83–99. https://doi.org/10.1130/2011.0024(05)
36. Новгородова М. И. Самородные металлы в гидротермальных рудах. М.: Наука; 1983. 288 p.
37. Burrows D. R., Lesher C. M. Copper-rich magmatic Ni-Cu-PGE deposits. In: Hedenquist J. W., Harris M., Camus F. Geology and genesis of major copper deposits and districts of the world: A tribute to Richard H. Sillitoe. Society of Economic Geologists; 2012. Pp. 515–552. https://doi.org/10.5382/SP.16
38. Peck D. C., Huminicki M. A. E. Value of mineral deposits associated with mafic and ultramafic magmatism: Implications for exploration strategies. Ore Geology Reviews. 2016;72(P1):269–298. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2015.06.004
39. Турченко С. И., Турченко Ф. А. Cu-Ni-PGE ресурсы докембрийских сульфидных месторождений: Аналитический обзор. Региональная геология и металлогения. 2022;89:93–106.
40. Sillitoe R.H., Lehmann B. Copper-rich tin deposits. Mineralium Deposita. 2022;57(1):1–11. https://doi.org/10.1007/s00126-021-01078-9
41. Seltmann R., Soloviev S., Pirajno F. et al. Metallogeny of Siberia: tectonic, geologic and metallogenic settings of selected significant deposits. Australian Journal of Earth Sciences. 2010;57(6):655–706. https://doi.org/10.1080/08120099.2010.505277
42. Vielreicher N. M., Groves D. I., Vielreicher R. M. The Phalaborwa (Palabora) deposit and its potential connection to iron-oxide cooper-gold deposits of olympic dam type. In: Porter T. M. (Ed.) Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold & Related Deposits: A Global Perspective. Adelaide: PGC Publ. 2000;1:321–329.
43. Макаров А. Б., Хасанова Г. Г., Талалай А. Г. Техногенные месторождения: Особенности исследований. Известия Уральского государственного горного университета. 2019;(3):58–62. https://doi.org/10.21440/2307-2091-2019-3-58-62
44. Potravny I., Novoselov A., Novoselova I. et al. The technogenic deposits’ development as a factor of overcoming resource limitations and ensuring sustainability. Preprints. 2023:1–16. https://doi.org/10.20944/preprints202309.1430.v1
45. Селезнев С. Г., Степанов Н. А. Отвалы Аллареченского сульфидного медно-никелевого месторождения как новый геолого-промышленный тип техногенных месторождений. Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 2011;(5):32–40.
46. Украинцев И. В., Трубилов В. С., Клепиков А. С. Бедное, некондиционное и техногенное сырье как перспективный источник получения меди. Цветные металлы. 2016;(10):36–42. https://doi.org/10.17580/tsm.2016.10.05
47. Бобомуротов Б. Б. Пространственное распределение меди и цинка в главной рудной залежи Урупского медноколчеданного месторождения, Северный Кавказ. Металлогения древних и современных океанов. 2022;28:226–229.
48. Курбанов М. М., Богуш И. А., Рылов В. Г. Колчеданное месторождение Кизил-Дере в Горном Дагестане. М.: Научный мир; 2014. 244 с.
49. Татаринов С. И. О горно-металлургическом центре эпохи бронзы в Донбассе. Советская археология. 1977;(4):192–207.
50. Шевырёв Л. Т., Савко А. Д., Черешинский А. В. Эволюция геодинамических обстановок Восточноевропейской платформы и её обрамления в фанерозое и ассоциирующие минерагенические трансгрессии. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. 2016;(2):13–21.
51. Шубин Ю. П. Особенности вещественного состава, генезиса и контроля меднорудной минерализации Бахмутской котловины Донбасса. Сборник научных трудов Донбасского государственного технического института. 2020;(20):23–30.
52. Компанець Г.С., Ковальчук М.С., Константиненко Л.І. и др. Міденосність верхньоюрської червоноколірно-теригенної субформації Придобруджинського прогину. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. 2012;(5):99–105.
53. Чернышов Н. М. Сульфидные платиноидно-медно-кобальт-никелевые месторождения Новохоперского рудного района и проблемы их комплексного освоения в условиях жестких экологических ограничений. Руды и металлы. 2013;(6):5–13.
54. Голубев А. И., Щипцов В. В., Михайлов В. П. Глушанин Л. В. Минерально-сырьевые ресурсы Республики Карелия. В: Геология Карелии от архея до наших дней. Петрозаводск: Институт геологии КарНЦ РАН; 2011. C. 123–134.
55. Корнеев А. В., Вихко А. С., Фатов Н. В., Иващенко В. И. Месторождение Викша – первый крупный промышленно-перспективный платинометалльный рудный объект на территории Карелии. Горный журнал. 2019;(3):31–34. https://doi.org/10.17580/gzh.2019.03.06
56. Тытык В. М., Фролов П. В. Молибденовое месторождение Лобаш - крупный перспективный объект в Республике Карелия. Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2014;(1):56–62.
57. Иванова Н. В., Гусев А. В., Матреничев А. В. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1 : 200 000. Издание второе. Серия Карельская. P-37-XV (Поча). Объяснительная записка. Минприроды России, Роснедра, Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ), АО «Северо-Западное ПГО». СПб: ВСЕГЕИ; 2023. 136 с.
58. Турченко С. И. Платинометальная и сульфидно-никелевая металлогения палеопротерозойского рифтогенеза на Балтийском щите. Геология рудных месторождений. 2017;59(2):83–92. https://doi.org/10.7868/S0016777017020058
59. Barnes S. J., Melezhik V.A., Sokolov S. V. The composition and mode of formation of the Pechenga nickel deposits, Kola Peninsula, Northwestern Russia. The Canadian Mineralogist. 2001;39(2):447–471. https://doi.org/10.2113/gscanmin.39.2.447
60. Чащин В. В., Иванченко В. Н. Сульфидные ЭПГ-Cu-Ni и малосульфидные Pt-Pd руды Мончегорского рудного района (западный сектор Арктики): геологическая характеристика, минералого-геохимические и генетические особенности. Геология и геофизика. 2022:63(4):622–650. https://doi.org/10.15372/gig2021184
61. Chashchin V. V., Petrov S. V., Drogobuzhskaya S. V. Loypishnyun low-sulfide Pt–Pd deposit of the Monchetundra basic massif, Kola peninsula, Russia. Geology of Ore Deposits. 2018;60(5):418–448. https://doi.org/10.1134/S1075701518050021
62. Субботин В. В., Корчагин А. У., Савченко Е. Э. Платинометалльная минерализация Федорово-Панского рудного узла: типы оруденения, минеральный состав, особенности генезиса. Вестник Кольского научного центра РАН. 2012;(1):54–65.
63. Грошев Н. Ю., Припачкин П. В., Рундквист Т. В. и др. Геологическое строение, геохимия и медно-никелево-платинометалльное оруденение Восточно-Панского расслоенного интрузива (Кольский регион, Россия). Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2023;20:57–67. https://doi.org/10.31241/FNS.2023.20.006
64. Калинин А. А., Галкин Н. Н. Докембрийское медно-молибден-порфировое месторождение Пеллапахк (зеленокаменный пояс Колмозеро-Воронья). Вестник Кольского научного центра РАН. 2012;(1):79–91.
65. Войтеховский Ю. Л., Нерадовский Ю. Н., Гришин Н. Н. и др. Колвицкое месторождение (геология, вещественный состав руд). Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического университета. 2014;17(2):271–278.
66. Naugolnykh S. V., Ivanov A. V., Uliakhin A. V., Novikov I. V. Paleoecological and depositional environment of permian copper-bearing sandstone fossil plants and tetrapod localities: Records from Bashkortostan and Kargalka river basin, Orenburg region, Russia. Paleontological Journal. 2022;56(11):1538–1555. https://doi.org/10.1134/S0031030122110120
67. Харитонов Т. В. Пермская медь: Обзор литературы. Пермь: Пермский государственный университет; 2016. 1098 с.
68. Халезов А. Б. Перспективы и проблемы промышленного освоения месторождений меди верхнепермской красноцветной формации Западного Предуралья (способами подземного и кучного выщелачивания). Руды и металлы. 2011;(5):5–14.
69. Контарь Е. С. Геолого-промышленные типы месторождений меди, цинка, свинца на Урале (геологические условия размещения, история формирования, перспективы). Екатеринбург: УГГУ; 2013. 203 с.
70. Грабежев А. И., Ронкин Ю. Л., Пучков В. Н. и др. Краснотурьинское медно-скарновое рудное поле (Северный Урал): U-Pb-возраст рудоконтролирущих диоритов и их место в схеме металлогении региона. Доклады Академии наук. 2014;456(4):443–447. https://doi.org/10.7868/S0869565214160191 (Trans. ver.: Grabezhev A. I., Ronkin Y. L., Rovnushkin M. Y. et al. Krasnotur'insk skarn copper ore field, northern urals: the U-Pb age of ore-controlling diorites and their place in the regional metallogeny. Doklady Earth Sciences. 2014;456(2):641–645. https://doi.org/10.1134/S1028334X14060117)
71. Грабежев А. И., Сотников В. И., Боровиков А. А., Азовскова О. Б. Генетическая типизация Гумешевского медно-скарнового месторождения (Средний Урал). Доклады Академии наук. 2001;380(2):242–244. (Trans. ver.: Grabezhev A. I., Sotnikov V. I., Borovikov A. A., Azovskova O. B. Genetic typification of the gumeshevsk skarn copper deposit, middle urals. Doklady Earth Sciences. 2001;380:830–832.)
72. Чудинова Н. Д. Из истории Меднорудянского рудника: начало. Минералогия. 2015;(1):81–85.
73. Soloviev S. G., Kryazhev S. G., Dvurechenskaya S. S. Geology, mineralization, stable isotope geochemistry, and fluid inclusion characteristics of the Novogodnee-Monto oxidized Au-(Cu) skarn and porphyry deposit, Polar Ural, Russia. Mineralium Deposita. 2013;48(5):603–627. https://doi.org/10.1007/s00126-012-0449-9
74. Баранников А. Г., Савельева К. П. Состав и строение медистых глин Гумешевского медно-скарнового месторождения. Вестник Пермского университета. Геология. 2011;(3):60–69.
75. Алтушкин И. А., Левин В. В., Король Ю. А., Карев Б. В. Опыт подземного выщелачивания руд Гумешевского медного месторождения. Цветные металлы. 2019;(5):17–32. https://doi.org/10.17580/tsm.2019.05.03
76. Тучина М. В., Ермакова Ю. В. Обеспеченность запасами медьдобывающих предприятий Южного и Среднего Урала, состояние и перспективы развития их сырьевой базы. Руды и металлы. 2019;(3):12–21. https://doi.org/10.24411/0869-5997-2019-10019
77. Бородаевская М. Б., Вахрушев М. И., Контарь Е. С. Геологическое строение Гайского рудного района и условия локализации в нем медноколчеданного оруденения (Южный Урал). М.: ЦНИГРИ; 1968. 214 c.
78. Миниярова Д. В. Юбилейное медно-колчеданное месторождение. Устойчивое развитие науки и образования. 2019;(1):253–255.
79. Петрова О. В., Байназарова Г. Р., Янтурина Ю. Д. Обоснование проектных решений по разработке месторождений Озерное и Западно-Озерное с учетом предотвращенного экологического ущерба. Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2012;70(1):51–54.
80. Галиуллин И. Б. Особенности геологического строения и вещественного состава руд ново-учалинского медноколчеданного месторождения, Южный Урал. Металлогения древних и современных океанов. 2011;(1):294–295.
81. Кантемиров В. Д., Титов Р. С., Яковлев А. М. Оценка потенциала и технологий освоения месторождений медноколчеданных руд в зоне Приполярного Урала. Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. 2018;(4):190–203.
82. Минина О. В., Мигачёв И. Ф. Медно-порфировые провинции и зоны Южного Урала (прогнозно-металлогеническое районирование). Отечественная геология. 2018;(4):26–41.
83. Алтушкин И. А., Левин В. В., Гордеев А. И., Пикалов В. А. Особенности освоения Томинского и Михеевского меднорудных месторождений Южного Урала. Цветные металлы. 2019;(7):21–28. https://doi.org/10.17580/tsm.2019.07.02
84. Андреев А. В., Гирфанов М. М., Куликов Д. А. и др. Рудные районы с медно-порфировым оруденением – перспективная минерально-сырьевая база меди Южного Урала. Отечественная геология. 2018;(4):3–17.
85. Грабежев А. И., Коровко А. В., Азовскова О. Б., Прибавкин С. В. Потенциально промышленная Алапаевско-Сухоложская медно-порфировая зона (Средний Урал). Литосфера. 2015;(3):79–92.
86. Полтавец Ю. А., Полтавец З. И., Нечкин Г. С. Волковское месторождение титаномагнетитовых и медно-титаномагнетитовых руд с сопутствующей благороднометальной минерализацией (Средний Урал, Россия). Геология рудных месторождений. 2011;53(2):143–157.
87. Душин В. А. Металлогения Ляпинского мегаблока (Приполярный Урал). Известия Уральского государственного горного университета. 2021;(2):88–105. https://doi.org/10.21440/2307-2091-2021-2-88-105
88. Савчук Ю. С., Волков А. В., Аристов В. В. Медистые базальты Северного Урала. Литосфера. 2017;17(3):133–144.
89. Серавина Т. В. Положение колчеданно-полиметаллических месторождений Сибири в вулканогенном разрезе (на примере Рудноалтайской, Салаирской, Кызыл-Таштыгской и Приаргунской минерагенических зон). Металлогения древних и современных океанов. 2018;(1):104–108.
90. Алабин Л. В. Структурно-формационная и металлогеническая зональность Кузнецкого Алатау. Труды института геологии и геофизики. Новосибирск: Наука, СО АН СССР. 1983;527:1–111.
91. Soloviev S. G., Voskresensky K. I., Sidorova N. V. et al. The Glafirinskoe and related skarn Cu-Au-W-Mo deposits in the Northern Altai, SW Siberia, Russia: geology, igneous geochemistry, zircon U-Pb geochronology, mineralization, and fluid inclusion characteristics. Ore Geology Reviews. 2021;138:104382. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104382
92. Soloviev S. G., Sidorova N. V., Kryazhev S. G. et al. Geology, mineralization, igneous geochemistry, and zircon U-Pb geochronology of the early paleozoic shoshonite-related Julia skarn deposit, SW Siberia, Russia: toward a diversity of Cu-Au-Mo skarn to porphyry mineralization in the Altai-Sayan orogenic system. Ore Geology Reviews. 2022;142:104706. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2022.104706
93. Рудюк А. К., Метальникова Е. С. Полезные ископаемые Кузбасса. Молибден. В: Материалы VI Международного молодежного экологического форума. Кемерово, 16–17 ноября 2022 г. Кемерово: Кузбасский государственный технический университет; 2023. C. 322.1–322.4.
94. Геология СССР. Том XIV. Западная Сибирь (Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Алтайский край). Полезные ископаемые. Под ред. Е. А. Козловского. В 2-х книгах. М., Недра. 1982;2:1–319.
95. Проскурнин В. Ф., Петров О. В., Романов А. П. И др. Центрально-Арктический золотосодержащий медно-молибден-порфировый пояс. Региональная геология и металлогения. 2021;85:31–49.
96. Струнин Б. М., Дюжиков О. А., Бармина О. А., Комаров В. В. Геологическая карта Норильского рудного района масштаба 1 : 200 000. Объяснительная записка. М.: Геоинформмарк; 1994. 122 с.
97. Ерыкалов С. П., Ковальчук К. К., Снисар С. Г. Геология и строение Масловского платино-медно-никелевого месторождения. Разведка и охрана недр. 2010;(9):31–34.
98. Malitch K. N. Forecasting criteria for sulphide PGE-copper-nickel deposits of the Noril’sk province. Lithosphere (Russia). 2021;21(5):660–682. https://doi.org/10.24930/1681-9004-2021-21-5-660-682
99. Старосельцев В. С. О возможности открытия богатого медно-никелевоплатинового оруденения на севере Хараелахских гор. Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2016;(4):84–86.
100. Мирошникова Л. К., Мезенцев А. Ю., Семенякина Н. В., Котельникова Е. М. Геолого-геохимические признаки и критерии потенциально рудоносного Тангаралахского интрузива. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2020;(6):115–130. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2020-6-0-115-130
101. Комарова М. З. Месторождение медно-молибденовых руд на Таймыре. Руды и металлы. 2012;(6):74–78.
102. Брагин В. И., Мацко Н. А., Харитонова М. Ю. Оценка эффективности освоения перспективных месторождений меди и золота Красноярского Севера. Арктика и Север. 2017;26:5–13. https://doi.org/10.17238/issn2221-2698.2017.26.5
103. Gablina I. F. Genetic types of copper mineralization in the Igarka area, west of the Siberian platform. Geology and metallogeny of copper deposits. Proceedings of the copper symposium 27th International Geological Congress. Moscow, 1984. Springer Link; 1986. Pp. 524–539.
104. Ржевский В. Ф., Габлина И. Ф., Василовская Л. В., Лурье А. М. Генетические особенности Гравийского месторождения меди. Литология и полезные ископаемые. 1988;(2):86–97.
105. Ломаева Г. Р., Тарасов А. В. Кингашское месторождение сульфидных благороднометалльно-медно-никелевых руд – первое в Восточном Саяне. Разведка и охрана недр. 2010;(9):28–31.
106. Кравцова О. А., Моторин Ю. М., Козырев С. М. и др. Перспективное медно-никелевое сырье Кингашского рудного района на примере Верхнекингашского рудопроявления. Разведка и охрана недр. 2006;(8):32–37.
107. Смагин А. Н., Парначев В. П. О новом Кахтарминском потенциально рудоносном районе Восточно-Саянской никель-платиноносной провинции. Вестник Томского государственного университета. 2012;363:214–218.
108. Бурдин Н. В., Лебедев В. И., Лебедев Н. И. Золото-медь-молибден-порфировые руды. Успехи современного естествознания. 2009;(5):15–22.
109. Монгуш А. Д. О., Лебедев В. И. Ак-Сугское медно-молибден-порфировое месторождение: вещественный состав пород и руд. Известия СО РАЕН. Геология, поиски и разведка рудных месторождений. 2013;(1):22–29.
110. Андреев А. В., Гирфанов М. М., Старостин И. А. и др. Геологическое строение, рудно-метасоматическая и минералого-геохимическая зональность золотосодержащего молибден-медно-порфирового месторождения Кызык-Чадр, Pеспублика Тыва. Руды и металлы. 2021;(1):57–76. https://doi.org/10.47765/0869-5997-2021-10004
111. Kuzhuget R. V., Ankusheva N. N., Kalinin Y. A. et al. Mineralogical and geochemical peculiarities and Pt conditions of ores from the Kyzyl-Tashtyg VMS polymetallic deposit, Eastern Tuva: fluid inclusion and S, O, C isotopic data. Ore Geology Reviews. 2022;142:104717. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2022.104717
112. Кислов Е. В. Северо-Байкальская платинометально-медь-никеленосная провинция: геодинамика, петрология, рудообразование. В: Металлогения древних и современных океанов – 2023. Минералогия и геохимия рудных месторождений: от теории к практике Материалы Двадцать девятой научной молодежной школы имени профессора В. В. Зайкова. Миасс; 2023. C. 40–44.
113. Рудашевский Н. С., Крецер Ю. Л., Орсоев Д. А., Кислов Е. В. Палладиево-платиновая минерализация в жильных Cu-Ni-рудах Йоко-Довыренского расслоенного массива. Доклады Академии наук. 2003;391(4):519–522. (Trans. ver.: Rudashevsky N. S., Kretser Yu. L., Orsoev D. A., Kislov E. V. Palladium-platinum mineralization in copper-nickel vein ores in the ioko-dovyren layered massif. Doklady Earth Sciences. 2003;391(6):858–861.)
114. Конников Э. Г., Цыганков А. А., Орсоев Д. А. Чайское медно-никелевое месторождение. Месторождения Забайкалья. 1995;1(1):39–47.
115. Gongalsky B., Krivolutskaya N. World-class mineral deposits of Northeastern Transbaikalia, Siberia, Russia. Cham, Switzerland: Springer; 2019. 323 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03559-4
116. Чечёткин В. С., Володин Р. Н., Наркелюн Л. Ф. и др. Удоканское месторождение медистых песчаников. Месторождения Забайкалья. 1995;1(1):10–19.
117. Трубачев А. И., Чечёткин В. С., Секисов А. Г. и др. Стратиформные месторождения зоны бам и проблемы их освоения. Вестник Забайкальского Государственного Университета. 2014;(12):51–64.
118. Гонгальский Б. И. Ресурсный потенциал Удокан-Чинейского рудного района, Забайкальский край. Руды и металлы. 2011;(3–4):45.
119. Якубчук А. С., Адырхаев В. В., Бачуля Л. И., Шматов С. А. Что хранят недра рядом с Удоканом? Рациональное освоение недр. 2020;(1):58–61. https://doi.org/10.26121/RON.2020.61.32.005
120. Гонгальский Б. И. Медные и урановые месторождения Кодаро-Удоканского района. Разведка и охрана недр. 2023;(2):12–21. https://doi.org/10.53085/0034-026X_2023_02_12
121. Цымбалист С. И., Рябкин В. К., Литвинцев Э. Г. и др. Рациональная технология предварительного радиометрического обогащения медно-сульфидных платинометалльных руд участка Рудный Чинейского месторождения. Разведка и охрана недр. 2017;(2):37–40.
122. Хомич В. Г., Борискина Н. Г. Совершенствование минерагенического районирования Восточного Забайкалья на основе геофизических исследований. Геология и геофизика. 2017;58(7):1029–1046. https://doi.org/10.15372/GiG20170706 (Trans. ver.: Khomich V. G., Boriskina N. G. Advancement of mineragenic regionalization of eastern transbaikalia based on geophysical studies. Russian Geology and Geophysics. 2017;58(7):822–835. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2017.06.005)
123. Коваленкер В. А., Абрамов С. С., Киселева Г. Д. и др. Крупное Быстринское Cu-Au-Fe-месторождение (Восточное Забайкалье) – первый в России пример ассоциированной с адакитами скарново-порфировой рудообразующей системы. Доклады Академии наук. 2016;468(5):547–552. https://doi.org/10.7868/S0869565216170205 (Trans. ver.: Kovalenker V. A., Abramov S. S., Kiseleva G. D. et al. The large bystrinskoe Cu–Au–Fe deposit (Eastern Trans-Baikal region): Russia’s first example of a skarn–porphyry ore-forming system related to adakite. Doklady Earth Sciences. 2016;468(2):566–570. https://doi.org/10.1134/S1028334X1606012X)
124. Ковалев К. Р., Калинин Ю. А., Туркина О. М. и др. Култуминское золото-медно-железо-скарновое месторождение (Восточное Забайкалье, Россия): петрогеохимические особенности магматизма и процессы рудообразования. Геология и геофизика. 2019;60(6):749–771. https://doi.org/10.15372/GiG2019078
125. Редин Ю. О., Редина А. А., Прокопьев И. Р. и др. Лугоканское золото-медно-скарновое месторождение (Восточное Забайкалье): минеральный состав, возраст и условия формирования. Геология и геофизика. 2020;61(2):216–242. https://doi.org/10.15372/GiG2019085
126. Салихов В. С., Игнатьев А. А. Структурно-динамические особенности Лугоканского рудного узла и его перспективы (Юго-Восточное Забайкалье). Вестник Забайкальского государственного университета. 2023;29(3):16–25. https://doi.org/10.2109/2227-9245-2023-29-3-16-25
127. Редин Ю. О., Калинин Ю. А., Неволько П. А. и др. Минеральные ассоциации и зональность оруденения Лугоканского рудного узла (Восточное Забайкалье). Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2014;(2):83–92.
128. Дербеко И. М., Агафоненко С. Г., Козырев С. К., Вьюнов Д. Л. Умлекано-Огоджинский вулканогенный пояс (проблемы выделения). Литосфера. 2010;(3):70–77.
129. Пересторонин А. Е., Вьюнов Д. Л., Степанов В. А. Месторождения золото-медно-молибден-порфировой формации Приамурской золотоносной провинции. Региональная геология и металлогения. 2017;70:78–85.
130. Мельников А. В., Степанов В. А., Остапенко Н. С., Моисеенко В. Г. Благороднометалльное оруденение месторождений и рудопроявлений медно-молибден-порфировой формации Верхнего Приамурья (Дальний Восток). Разведка и охрана недр. 2020;(7):20–26.
131. Смирнов С. С. Тихоокеанский рудный пояс в пределах СССР. Природа. 1946;(2):52–60.
132. Архипов Г. И. Состояние и перспективы недропользования в Хабаровском крае. Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 2010;(1):10–19.
133. Soloviev S. G., Kryazhev S. G., Dvurechenskaya S.S. Geology, mineralization, stable isotope, and fluid inclusion characteristics of the Vostok-2 reduced W-Cu skarn and Au-W-Bi-As stockwork deposit, Sikhote-Alin, Russia. Ore Geology Reviews. 2017;86:338–365. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2017.02.029
134. Soloviev S. G., Voskresensky K. I., Kryazhev S. G. et al. The superlarge Malmyzh porphyry Cu-Au deposit, Sikhote-Alin, Eastern Russia: igneous geochemistry, hydrothermal alteration, mineralization, and fluid inclusion characteristics. Ore Geology Reviews. 2019;113:103–112. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.103112
135. Прилукова В. А., Доржиев Б. Б., Мелкий В. А., Верхотуров А. А. Геологическое строение и характер оруденения Центрально-Анаджаканской площади (Хабаровский край). В: Нефтегазовый комплекс: проблемы и решения. Технологические решения, геологическое строение, сейсмичность, аэрокосмический мониторинг, геодезическое обеспечение. Материалы Третьей национальной научно-практической конференции с международным участием. Южно-Сахалинск, 2–4 декабря 2020 года. Южно-Сахалинск: Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН; 2021. C. 25–30.
136. Юшманов Ю. П. Структура и зональность Au-Cu оруденения месторождения Лазурное в Центральном Сихотэ-Алине. Тихоокеанская геология. 2002;21(2):85–90.
137. Soloviev S. G., Kryazhev S. G., Avilova O. V. et al. The Lazurnoe deposit in the Central Sikhote-Alin, Eastern Russia: combined shoshonite-related porphyry Cu-Au-Mo and reduced intrusion-related au mineralization in a post-subduction setting. Ore Geology Reviews. 2019;112:103063. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.103063
138. Ханчук А. И., Раткин В. В., Рязанцева М. Д. и др. Геология и полезные ископаемые Приморского края: Очерк. Владивосток: Дальнаука; 1995. 81 с.
139. Ханчук А. И., Архипов Г. И., Иванов В. В. Ресурсы меди Дальнего Востока России: состояние, проблемы и перспективы использования. Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. 2019;(2):12–24. https://doi.org/10.25808/08697698.2019.204.2.002
140. Приходько В. С., Пересторонин А. Н., Гурьянов В. А. и др. Джугджур-Становой пояс мелких тел мафитов-ультрамафитов и связанная с ними Cu-Ni сульфидная минерализация. Вестник Отделения наук о Земле РАН. 2010;(2):NZ10005. https://doi.org/10.2205/2010NZ000054
141. Гурьянов В. А., Петухова Л. Л., Абражевич А. В. и др. Геологическая позиция, минералы редких и благородных металлов в рудах медно-никелевого месторождения Кун-Маньё (юго-восточное обрамление Сибирской платформы). Тихоокеанская геология. 2022;41(6):3–23. https://doi.org/10.30911/0207-4028-2022-41-6-3-23 (Trans. ver.: Guryanov V. A., Petukhova L. L., Abrazhevich A. V. et al. . The geological position, minerals of rare and noble metals in the ores of the Kun-Manie copper-nickel deposit (southeastern fringe of the Siberian Platform). Russian Journal of Pacific Geology. 2022;16(6):525–543. https://doi.org/10.1134/s1819714022060057)
142. Приходько В. С., Гурьянов В. А., Петухова Л. Л., Пересторонин А. Н. Сульфидная Cu-Ni минерализация палеопротерозойских мафит-ультрамафитов юго-востока Алдано-Станового щита. В: Ультрабазит-базитовые комплексы складчатых областей и связанные с ними месторождения. Материалы 3-ей международной научной конференции. Качканар, 28 августа–2 сентября 2009 г. Екатеринбург: Институт геологии и геохимии им. акад. А. Н. Заварицкого УрО РАН. C. 111–114.
143. Гуревич Д. В., Белогуб Е. B., Петров С. В. и др. Модель формирования Cu-Pt-Pd оруденения в платиноносном массиве урало-аляскинского типа: массив Кондер, Хабаровский край, Россия. В: Породо-, минерало- и рудообразование: достижения и перспективы исследований. Труды к 90-летию ИГЕМ РАН. М.: ИГЕМ; 2020. C. 87–90.
144. Малышев Ю. Ф., Горошко М. В., Каплун В. Б. и др. Геофизическая характеристика и металлогения востока Алданостанового щита (Дальний Восток). Тихоокеанская геология. 2012;31(4):3–16. (Trans. ver.: Malyshev Y. F., Goroshko M. V., Kaplun V. B. et al. Geophysical characteristics and meallogeny of the eastern Aldan-Stanovoi shield, Far East. Russian Journal of Pacific Geology. 2012;6(4):263–274. https://doi.org/10.1134/S1819714012040033)
145. Кутырев Э. И., Соболев А. Е., Толстых А. Н., Шлейкин П. Д. Медистые песчаники и медистые базальты южной части Билякчанской зоны. Разведка и охрана недр. 1986;(11):11–13.
146. Майборода А. А. Медистые песчаники Билякчанской шовной зоны, их потенциальная платиноносность и некоторые вопросы стратиграфии. Региональная геология и металлогения. 2007;(30–31):144–152.
147. Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России. Под ред. А. И. Ханчука. Владивосток: Дальнаука; 2006. Книга 1. 572 с. Книга 2. С. 573–981.
148. Глухов А. Н., Тюкова Е. Э. Геолого-генетические особенности Ороекского рудопроявления медистых сланцев (Приколымский террейн, Северо-Восток России). Отечественная геология. 2020;(1):52–65.
149. Савва Н. Е., Волков А. В., Галямов А. Л. и др. Медистые сланцы Приколымского террейна (Северо-Восток России): минералого-геохимические особенности и условия рудообразования. Тихоокеанская геология. 2023;42(6):20–38. https://doi.org/10.30911/0207-4028-2023-42-6-20-38
150. Костин А. В. Минеральные типы Fe-оксидных-Cu-Au руд проявлений Джалкан, Росомаха и Хурат (Сетте-Дабан, Восточная Якутия). Отечественная геология. 2016;(6):11–15.
151. Читалин А. Ф., Усенко В. В., Фомичев Е. В. Баимская рудная зона – кластер крупных месторождений цветных и драгоценных металлов на западе Чукотского АО. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2013;(6):68–73.
152. Мигачев И. Ф., Гирфанов М. М., Шишаков В. Б. Меднопорфировое месторождение Песчанка. Руды и металлы. 1995;(3):48–58.
153. Нагорная Е. В., Бакшеев И. А., Брызгалов И. А., Япаскурт В. О. Минералы системы Au-Ag-Pb-Te-Se-S медно-молибден-порфировых месторождений рудного поля Находка (Чукотка). Вестник Московского университета. Серия 4: Геология. 2012;(4):26–31.
154. Сабельников И. С. Рудная минерализация медно-молибден-порфирового типа восточной части Чукотского автономного округа. Современные проблемы науки и образования. 2013;(5):543–550.
155. Авилова О. В., Гирфанов М. М., Андреев А. В., Старостин И. А. Особенности вещественного состава руд медно-порфировых проявлений Танюрерского и Ольховского рудных районов (Центральная Чукотка). В: Научно-методические основы прогноза, поисков и оценки месторождений благородных, цветных металлов и алмазов. Сборник тезисов докладов VII научно-практической конференции. Москва, 13–14 апреля 2017 г. М.: ЦНИГРИ; 2017. C. 56–57.
156. Глухов А.Н., Тюкова Е.Э. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы меди Магаданской области. Руды и металлы. 2013;(5):21–33.
157. Колова Е. Е., Глухов А. Н., Ползуненков Г. О., Акинин В. В. Медно-порфировая минерализация Тальникового рудного поля (Охотский сегмент Охотско-Чукотского вулканогенного пояса). Тихоокеанская геология. 2023;42(6):39–61. https://doi.org/10.30911/0207-4028-2023-42-6-39-61
158. Алексеенко А. В., Коробейников С. В., Сидоров В. А. Новые данные о медно-молибден-порфировой минерализации на Омолонском массиве. В: Рудные формации Северо-Востока СССР. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН; 1990. C. 157–162.
159. Городинский М. Е., Гулевич В. В., Титов В. А. Медные проявления Северо-Востока СССР. В: Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР. Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР; 1978. C. 151–158.
160. Яроцкий Г. П., Чотчаев Х. О. Вулканогены окраинных орогенных поясов северо-западного сектора Северо-Восточной Азии. Геология и геофизика Юга России. 2019;9(3):18–35. https://doi.org/10.23671/VNC.2019.3.36486
161. Ledneva G. V., Matukov D. I. Timing of crystallization of plutonic rocks from the Kuyul ophiolite terrane (Koryak highland): U-Pb microprobe (SHRIMP) zircon dating. Doklady Earth Sciences. 2009;424(1):11–14.
162. Новаков Р. М., Сидоров М. Д. Никеленосность медно-колчеданных проявлений в серпентинитах Восточной Камчатки. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2016;(S31):13–26.
163. Кутыев Ф. Ш., Байков А. И., Сидоров Е. Г. и др. Металлогения мафит-ультрамафитовых комплексов Корякско-Камчатского региона. В: Магматизм и рудоносность вулканических поясов. Хабаровск: ИТиГ; 1998. С. 73–74.
164. Трухин Ю. П., Степанов В. А., Сидоров М. Д., Кунгурова В. Е. Шанучское медно-никелевое рудное поле (Камчатка). Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. 2011;(1):20–26.
165. Тарарин И. А., Чубаров В. М., Игнатьев Е. К., Москалева С. В. Геологическая позиция, минералогия и платиноидная минерализация медно-никелевых рудопроявлений Квинумского рудного поля срединного хребта Камчатки. Тихоокеанская геология. 2007;1(1):94–110. (Trans. ver.: Tararin I. A., Chubarov V. M., Moskaleva S. V., Ignat'ev E. K. Geology, mineralogy, and PGE mineralization of the copper-nickel occurrences of the Kvinum ore field, Sredinny range, Kamchatka. Russian Journal of Pacific Geology. 2007;1(1):82–97. https://doi.org/10.1134/S1819714007010095)
166. Сидоров М. Д., Кунгурова В. Е. Определение продуктивности рудно-магматических систем Квинум-Кувалорогской никеленосной зоны по плотностной модели (Камчатский срединный массив). Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. 2019;(2):3–10. https://doi.org/10.34078/1814-0998-2019-2-3-10
167. Soloviev S. G., Ezhov A. I., Voskresensky K. I. et al. The Kirganik alkalic porphyry Cu-Au prospect in Kamchatka, Eastern Russia: a shoshonite-related, silica-undersaturated system in a late cretaceous island arc setting. Ore Geology Reviews. 2021;128:103893. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2020.103893
168. Гаськов И. В., Борисенко А. С., Бабич В. В., Наумов Е. А. Стадийность и длительность формирования золоторудной минерализации на медно-скарновых месторождениях (Алтае-Саянская складчатая область). Геология и геофизика. 2010;51(10):1399–1412. (Trans. ver.: Gaskov I. V., Borisenko A. S., Babich V. V., Naumov E. A. The stages and duration of formation of gold mineralization at copper-skarn deposits (Altai-Sayan folded area). Russian Geology and Geophysics. 2010;51(10):1091–1101. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2010.09.001)
169. Soloviev S. G., Kryazhev S. G., Dvurechenskaya S. S., Uyutov V. I. Geology, mineralization, fluid inclusion, and stable isotope characteristics of the Sinyukhinskoe Cu-Au skarn deposit, Russian Altai, SW Siberia. Ore Geology Reviews. 2019;112:103039. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.103039
170. Soloviev S. G., Voskresensky K. I., Kryazhev S. G. et al. The Ulandryk and related Iron Oxide-Cu-Ree(-Au-U) prospects in the Russian Altai: a large emerging IOCG-type system in a phanerozoic continental setting. Ore Geology Reviews. 2022;146:104961. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2022.104961
171. Han C., Xiao W., Sul B. et al. Mid-late paleozoic metallogenesis and evolution of the Chinese Altai and East Junggar orogenic belt, NW China, Central Asia. Journal of Geosciences (Japan). 2014:59(3):255–274. https://doi.org/10.3190/jgeosci.173
172. Proskurnin V., Petrov O., Paderin P. Taimyr carbonatite province. In: The 33rd International Geological Congress. Oslo, Norway, 2008, 6–14 August.
173. Силаев В. И., Проскурнин В. Ф., Гавриш А. В. и др. Карбонатитовый комплекс необычных горных пород и минерализации в Восточном Таймыре. В: Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского. 2016;19:119–136.
174. Угрюмов А. Н., Дворник Г. П. Щелочные рудоносные метасоматиты Рябинового массива (Алданский щит). Советская геология. 1984;(9):84–94.
175. Кочетков А. Я. Молибден-медно-золото-порфировое месторождение Рябиновое. Отечественная геология. 1993;(7):50–58.
176. Шатова Н. В., Молчанов А. В., Терехов А. В. и др. Рябиновое медно-золото-порфировое месторождение (Южная Якутия): Геологическое строение, геохимия изотопов благородных газов и изотопное (U-Pb, Rb-Sr, Re-Os) датирование околорудных метасоматитов и оруденения. Региональная геология и металлогения. 2019;77:75–97.
177. Бодуэн А. Я., Мельничук М. С., Петров Г. В., Фокина С.Б. Исследование обогатимости медно-порфировых руд Алданского региона. Международный научно-исследовательский журнал. 2018;(3):68–74. https://doi.org/https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.69.015
178. Петров О. В., Молчанов А. В., Терехов А. В., Шатов В. В. Морозкинское золоторудное месторождение (особенности геологического строения и краткая история открытия). Региональная геология и металлогения. 2018;75:112–116.
179. Soloviev S. G., Kryazhev S. G., Dvurechenskaya S. S. Geology, mineralization, and fluid inclusion characteristics of the Agylki reduced tungsten (W-Cu-Au-Bi) skarn deposit, Verkhoyansk fold-and-thrust belt, Eastern Siberia: tungsten deposit in a gold-dominant metallogenic province. Ore Geology Reviews. 2020;120:103452. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2020.103452
180. Жегалов Ю. В. Командорские острова. В: Геология СССР. Камчатка, Курильские и Командорские острова. 1964;XXXI(I):645–660.
Об авторах
Г. Ю. БояркоРоссия
Григорий Юрьевич Боярко – доктор экономических наук, кандидат геолого-минералогических наук, профессор
г. Томск
Scopus ID 56350674500
А. М. Лаптева
Россия
Анна Михайловна Лаптева – кандидат геолого-минералогических наук, доцент, заведующая отделом анализа минерально-сырьевого комплекса
г. Москва
Л. М. Болсуновская
Россия
Людмила Михайловна Болсуновская – кандидат филологических наук, доцент
г. Томск
Scopus ID 56350747600
Рецензия
Для цитирования:
Боярко Г.Ю., Лаптева А.М., Болсуновская Л.М. Минерально-сырьевая база меди России: состояние, возможности развития. Горные науки и технологии. 2024;9(4):352-386. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2024-05-248
For citation:
Boyarko G.Yu., Lapteva A.M., Bolsunovskaya L.M. Mineral resource base of Russia’s copper: current state and development prospects. Mining Science and Technology (Russia). 2024;9(4):352-386. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2024-05-248
JATS XML




































